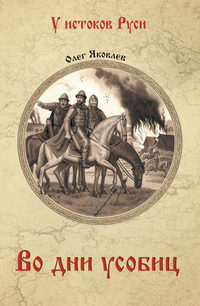
Во дни усобиц
Боярин Яровит жадно всматривался вперёд. Долгая дорога надоедала, а ноющая от усталости спина напоминала о том, что молодые годы давно минули и с каждым днём, с каждым годом накатывает ему на плечи старость, близит окончание земного пути. Нынешним летом стукнуло Яровиту сорок пять, вроде ещё и силы нерастраченной много, и замыслов больших хватает, а вот ломит в спине, пот катится градом из-под шапки с собольей опушкой, на привалах дрожат и немеют от напряжения колени, и кости трещат в ногах, как только разгибаешь их после скачки.
Чем ближе подъезжали они к Новгороду, тем меньше встречалось на пути деревень и сёл – один чёрный еловый лес густел за обочинами да широкая белая лента шляха бежала за окоём, перескакивая с пригорка на пригорок. Постепенно Яровит отвлёкся – и от боли своей, и от созерцания унылой дороги. Целиком погрузился он, как часто случалось в дни пути, в размышления.
С купцом Захарией Козарином договорились о торговых делах. Захария посылал в Новгород своих людей, мыслил скупать воск и дорогие меха, везти их по весне Волгою в Саксин[89] и дальше, за Хвалисское море, в Персию. Всюду были у Захарии связи, он называл имена, города, товары. Чуял Яровит: если поставить дело как подобает, польются в скотницу[90] обильные ручьи звонкого серебра. И на Персии и Саксине он не остановится, будет снаряжать купецкие караваны в западные земли – к поморянам, свеям, в Германию, во Фландрию. Он хорошо понимал, что главный источник богатства тут, на севере Руси, как раз торговля, ведь добрых урожаев на болотистой, продуваемой холодными ветрами Балтики земле не соберёшь. Зато разноличные ремёсла, охотничьи промыслы, бортничество – это он намерен был поощрять и развивать. Благо власти у него в Новгороде будет поболе, чем даже и у князя.
Вдруг подумалось о князе Всеволоде. Тогда, перед отъездом его из Чернигова, младший Ярославич назвал его другом и помощником. И не предаёт ли теперь он, Яровит, своего благодетеля? Не попирает ли он стопами былую дружбу, когда руками Святополка переманивает на новгородскую службу англов и мыслит заключить договор со Всеславом Полоцким? И не хочет ли он в грядущем оторвать Северную Русь от Южной, Новгородские земли от Киева? Не Всеславовым ли путём он идёт?
Нет, нет, не в том дело! Он не раскольник, не смутьян, не переветник![91] Просто он думает, знает: как раз здесь, на севере, в этих непролазных дебрях – будущее Русской земли, её народа, грядущая её слава. А коли так, то и хочет он, чтоб и воины удатные приходили сюда на службу, и народец селился в городских посадах, спасаясь через леса и реки от половецких набегов и княжеских усобиц. И мир на земле нужен, вот для того и направлены будут послы в соседний Полоцк. И если князь Всеволод этого не понимает – значит, то его беда и вина. Ибо канули в Лету времена, когда все города и веси тянули к Киеву. Объединить Русь, забрать власть в одни руки – это глупые бредни и несбыточные мечты! Он, Яровит, хотел блюсти с Киевом мир, торговать хотел – не воевать, как в гордыне погрязший покойный Глеб. Но и свободы хотел; хотел, чтоб руки у него были развязаны, чтоб не указывали ему из Киева, как быть и что делать.
Они обогнули Ильмень-озеро; лес расступился, убежал вправо, в синюю даль; заискрился впереди широкий Волхов, запестрели многолюдные пригородные слободы. В морозное небо возносились купола тьмочисленных деревянных церквушек, долгой чередой тянулись починки с глухими заборами, по дорогам со скрипом проезжали крытые рядном[92] телеги.
– Слава Христу! Конец близит пути нашему! – Святополк, накинув на плечи медвежью шубу, высунулся в дверь возка. Его мутило – вчера с Магнусом излиха выпили мёду.
– Нельзя мне пить. Всякий раз, как выпью, жженье огненное, – пожаловался он жене, держась за бок и досадливо морщась.
Княгиня Лута, в парчовой шапочке, с золотыми звенящими серьгами в ушах, заботливо, с осторожностью подала ему горячий травяной отвар.
Святополк большими глотками быстро опорожнил чашу, скривился от горечи во рту и повалился обратно на лавку.
Впереди показались строения Городища. В предвкушении покоя и отдыха молодой князь смежил веки.
Глава 14. Милана-Гликерия
Молодая жёнка в чёрном вдовьем повойнике на голове стояла, опираясь на толстую сучковатую палку, возле Восточных ворот черниговского посада. Большие серые глаза с долгими бархатистыми ресницами устало и равнодушно скользнули по веренице всадников в дощатых бронях[93], в шеломах с кольчужными бармицами[94], которые вихрем, вздымая тяжёлую осеннюю пыль, пронеслись к Кромному городу. Обернувшись, молодица посмотрела им вслед. Уголок алого рта кривился в злой презрительной усмешке.
Чёрное одеяние не сокрыло Миланиной красоты, а постигшее её горе – гибель во время осады Чернигова любимого мужа, Олегова дружинника Ратши – только острее очертило линии лица. Глаза стали словно бы больше и выразительней, прямой нос утончился, побледневшие щёки чуть впали, сильнее, чем раньше, подчёркивая её молодость.
Всадники скрылись за стеной внутреннего города. Милана свернула с дороги и быстрым лёгким шагом двинулась к ограде кладбища. Остановилась круто у решётчатых чугунных врат, осенила себя крестным знамением, пошла дальше, петляя между разбросанными в беспорядке могилами.
У свежего надгробья с каменным, доброй работы крестом она опустилась на лавку. Долго смотрела, сдерживая слёзы, на скромную надпись на кресте: «Мечникъ Ратша». Тишина стояла вокруг, только вороний грай доносился из недалёкой осиновой рощицы.
Не выдержав, Милана закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Овладели ею боль, отчаяние, горький, как полынь-трава, ком стоял в горле, перехватывая дыхание.
Одолела себя, встала со скамьи, выпрямилась в струнку. Заговорила шёпотом, твёрдо и спокойно:
– Прощай, Ратша мой любый! Николи боле не свидимся мы. Даж к могилке твоей, и то, видать, не судьба мне хаживать. Но ведай: отмщу я за кровушку твою местью лютою! Получит убивец проклятый за гибель твою полною мерою! В том ротý[95] даю! Прощай!
Она бросила последний взгляд на крест с надписью, снова с усилием сдержала слёзы на глазах, прошла ещё к соседней, отцовой могиле, положила цветы, а затем, резко повернувшись, едва не бегом ринула назад, за ограду кладбища.
Шла, запыхавшись, опираясь на палку, вверх по склону приречного холма. Остановилась, устало вытерев с чела пот, на самой круче. Перевела дух, огляделась по сторонам; видя, что никого поблизости нет, юркнула в маленькую пещерку, вырытую в давние времена каким-то благочестивым монашком.
В нос ударил тошнотворный запах тления. Раздвинув густые кусты орешника, Милана подошла к лежащему в пещерке телу молодой женщины. Этот труп она обнаружила у речного берега пару дней назад и отнесла сюда, сокрыв ото всех. Умершая была либо утопленница, либо погибла она во время недавней осады Чернигова – может, задохнулась в дыму или разбилась, упав с кручи. Хотя ран на теле у неё нигде не было видно.
Милана отыскала в пещерке заготовленную намедни большую корзину с домотканым крестьянским саяном и простенькой обшарпанной шубейкой, быстро переоделась, а затем, преодолевая страх и отвращение, нарядила труп в своё платье и повой[96]. Подумав, отцепила золотые серёжки – Ратшин подарок, с горечью и сожалением вставила их в уши умершей женщины. После, взяв острый камень, до неузнаваемости изуродовала лицо покойницы. Истерев в кровь пальцы, отбросила камень, поглядела на труп, улыбнулась удовлетворённо: «Теперича не признают. Помыслят, я будто се».
Смеркалось. Милана осторожно, стараясь не шуметь, перетащила тело к реке и положила в воду у самого берега. Ещё раз огляделась, прислушалась, сильней надвинула на чело чёрный плат.
Лениво лизала песчаный берег речная волна. Пахло тиной, холодный ветер плескал в лицо. Милане сделалось страшно, она содрогнулась, покачнулась, едва не упала, судорожно ухватившись за палку. Вдруг только что такая важная, необходимая ей месть стала казаться пустой глупой мечтой взбалмошной отчаявшейся жёнки. Неужели всё это переодевание, этот труп, качающийся на волнах – её, Миланы, затея?! Нет, нелепо, бессмысленно поступает она! Ведь Ратшу она не вернёт, а больше… Больше нету у неё ничего в жизни!
Чада – их воспитают мать и тётки – благо все они не стары и не бедны.
А Яровит – так ли уж он виноват? Видела Милана, как отодвинул он от Ратши негодяев-ростовцев, видела и то, что был у них с Ратшей честный поединок, и ещё – что Ратша напал на Яровита первым. Но если, если не мстить, то что же ей остаётся?!
В какое-то мгновение Милане захотелось броситься с размаху в речную глубь, уйти прочь от этого жестокого равнодушного к её беде и горю мира.
Пересилил опять-таки страх, и ещё она знала: покончить с собой – значит погубить свою душу.
Да что она, в конце концов, так распустилась! – одёрнула себя молодица. Откуда страхи, откуда мысли безлепые?![97] Всё делает она правильно. Так и должно быть! Не уйдёт убивец от ответа!
С трудом заставив себя отбросить прочь сомнения и колебания, Милана решительно вскарабкалась обратно на гору.
…Мать, боярыня Анастасия, горько рыдала в углу.
Милана твёрдо, вскидывая голову, говорила:
– Сребро возьму, поеду в Новый город. Сказывать буду: вдова я купецкая. Нарекусь именем крестильным, Гликерией. В Новом городе как ни то обустроюсь. Чад, аще[98] что, привезёшь ко мне. Негоже им без матери-то. А может, и по-иному содеем. Что, аще не удастся месть моя, аще Бог от мя отворотит? Ну, да тамо поглядим. Пущай покуда думают, будто утопла я. Об одном прошу, мамо: жёнку ту схороните по-христиански, как подобает. Ну а я ныне же нощью отъеду. Никому обо мне не сказывай. Токмо один Издень-возчик пущай ведает. Издень – человек верный. Даст Бог, довезёт до Нова города.
– Без охраны-то, дочь, как и ехать?! Тати на дорогах, убивцы! – запричитала мать.
– В Смоленеске ладью найму. А до Смоленеска дорога добрая. Издень мигом домчит, – стала успокаивать её Милана.
Она через силу попыталась улыбнуться, но внезапно не выдержала, всхлипнула и, закусив губу, выскочила в тёмные сени.
…Богатая купецкая вдова Гликерия поселилась в Загородском конце Новгорода, в свежесрубленных двухъярусных хоромах. По весне снарядила она вместе с соседом-купцом торговый корабль на Готланд[99] – благо сребра хватало. Меха и воск повезли в заморские страны прилежные купецкие слуги.
Мысли о мести на время отступили, затаились где-то на самом дне страждущей души. Поразмыслив, Гликерия отписала в Чернигов матери. Просила привезти в Новгород сыновей – без них становилось ей скучно, уныло и одиноко. Вот будут они рядом, жизнь её наладится, а месть – месть подождёт. Не пришёл, не настал ещё её срок.
Гнала прочь Гликерия всякие мысли о прошлом: о Ратше, о Яровите, о смерти. Ведь была она молода, красива, умна.
Как выходила на крытые досками широкие новгородские улицы, в цветастом расписном саяне или в дорогом, саженном жемчугами летнике[100], так ловила повсюду восторженные мужские взоры, слышала за спиной восхищённый шепоток. И становилось почему-то от этого на душе светло и тепло, хотелось беззаботно и весело смеяться, как ребёнку, радуясь солнцу над головой.
А вослед ей неслась звонкая песня:
Станом она становитая,И лицом она красовитая.Походка у неё часта и речь баска.И всё бы хорошо, да накатывали порой вечерами, бередили душу воспоминания. Перед глазами вставали картины осады Чернигова союзными ратями Изяслава и Всеволода Ярославичей, она видела Ратшу, падающего на жухлую осеннюю траву, Яровита с окровавленной саблей в деснице. Прошлое не хотело отступать, уходить от неё, и она верила: пробьёт, настанет час её сладкой, упоительной, неотвратимой мести.
Так и жила она, тая от всех свои желания, в тревожном терпеливом ожидании грядущих событий.
Глава 15. Новые заботы Мономаха
Вначале князю Владимиру Мономаху было страшно проезжать по пустынным притихшим улицам черниговского посада, осматривать чёрные пепелища на местах былых строений, озирать закопчённые стены крома[101] и покосившийся, пострадавший при пожаре собор Спаса. Думалось со скорбью: неужели это он (он, Владимир Мономах!) велел жечь эти дома, церкви, ломать заборы?! Руки опускались, он не знал, как ему теперь быть, что делать. Ведь даже смотреть в глаза горожанам – и то не мог. Только и слышал за спиной обидные, задевающие за живое слова: «Ворог!», «Кровопивец!», «Злодей!» Упрямо сжимал уста, стискивал руки в кулаки, крепился, терпел.
Первым делом велел подновить собор, собрал лучших камнесечцев из окрестных сёл и городов. Следом стали отстраивать крепостные стены.
Людины и ремественники роптали: Владимир отрывал их от привычных дел, велел валить лес, копать землю, забирал на строительство коней и подводы.
Жужжали пилы, стучали топоры, лопаты. И вот уже, как прежде, вознёсся к небесам собор Спаса с шеломовидным главным куполом на толстом барабане, с боковыми остроглавыми башенками, устремлёнными в голубой небесный простор. Желтели в вышине золотые кресты, а рядом горделиво реяли на вновь отстроенных и подновлённых городских башнях стяги.
Работа спорилась, разрушенный и разграбленный Чернигов оживал. Владимир с утра до ночи пребывал на строительстве, носился как угорелый взад-вперёд, давал короткие наказы, а иной раз и сам с дружинниками брался за бревно. Вечерами, усталый, измождённый, с ломотой в спине, падал он на жёсткое ложе в наскоро срубленной для него избе и мгновенно, не чуя рук и ног, проваливался в глубокий безмятежный сон. А поутру всё начиналось сызнова.
К зиме город был почти отстроен, мало-помалу былая мирная жизнь в нём налаживалась, и это радовало молодого князя. Беспокоило иное – всё-таки Чернигов был и оставался для него чужим, враждебным городом, городом Святослава и Олега. Певцы пели песни, прославляя былых витязей и князей, бояре злобно шептались по углам, простолюдины не могли простить Владимиру своих спалённых жилищ и погибших родичей. Да, дел в Чернигове был у него непочатый край.
По первому снегу прикатил из Киева княжеский поезд. Гида, как всегда, холодная и неулыбчивая на людях, поднялась по ступеням обновлённого дворца. Дядьки вели под руки облачённых в кожушки крохотных княжичей Мстислава и Изяслава. И сразу шумом наполнились тихие доселе палаты. После, в горнице, Гида положила голову мужу на плечо и шёпотом, сдерживая слёзы, сказала:
– Скучала. Ночи не спала… Ждала… Каждой грамоты твоей.
Потом была ночь, объятия в ложнице, скупые слова любви, смущённое признание Владимира:
– Отвык я от этого, лада. – И в ответ шепоток:
– И я тоже.
Уже они лежали, оба успокоенные и умиротворённые, когда Гида вдруг спросила:
– Скажи, как князь Изяслав погиб.
– С чего ты о нём? – встревожился Владимир. – Экие у тебя мысли. Да не думай ты, прошло, схлынуло нахожденье ратное. Одолели мы ворогов. Мир грядёт.
Но Гида упрямо замотала головой.
– Я знаю. Это твой отец, он убил.
– Что ты городишь?! – Владимир в гневе вскочил с постели. – Кто такое сказывал?! Говори! Кто навет сей мерзкий выдумал?! Кто хощет нас с князьями Петром и Святополком рассорить?!
– Я… случайно… Слышала я… Как твой отец… в покое молился… Несла ему книгу… Апостола… Услышала… Говорил он: «Не хотел убивать его! Бес меня попутал! Изяслав, брат!»
Владимир судорожно ухватился пальцами за резную спинку кровати. Стоял, не шелохнувшись, с внезапным ужасом, пронзившим сердце; наконец, выйдя из оцепенения, поспешил успокоить притихшую жену:
– Ты… Верно, ошиблась ты… Не то услыхала.
– Нет, нет! – решительно замотала головой Гида. – Я ясно слышала. Тихо было, ночь… И шёпот жаркий… Не ошиблась я.
– Ну дак, верно, попросту не уразумела ты. – Владимир с усилием преодолел волнение, сел и приобнял дрожащую княгиню за плечи. – Верно, скорбел отец о том, что погиб князь Изяслав за его дело. Ведь вступился он за отца, повёл рать киевскую на Чернигов и вот… сгинул. Потому и корит себя отец, и кается пред Господом.
– Ты… Уверен в этом? – Гида отодвинула его руки и продолжила с внезапной суровой решимостью в голосе: – Владимир, муж мой! Я хочу, чтобы ты поклялся… Поклялся, что ничего не знал! Что в гибели князя Изяслава неповинен! Вот, поцелуй!
Она положила на ладонь нательный Владимиров крестик и поднесла к его лицу.
– Поцелуй, – требовательно повторила шёпотом.
Владимир прикоснулся к кресту губами, прошептал: «Клянусь!» – и Гида, тотчас успокоенная его словами, откинула голову на подушку.
– Ты не обманываешь меня, я знаю, – сказала она. – Ты не такой, как мой отец, король Гарольд. Вот он нарушил клятву, которую дал герцогу Вильгельму. И потом он погиб в бою с ним. Страшно это!
– Страшно, да. Но ты о том не мысли. Нет бо на мне греха сего тяжкого. А отец… Что ж, может, ты не то услыхала, а может… Да кто ведает? Одно скажу: не нам судить отцов наших. Спи давай.
Владимир любовно провёл ладонью по впалой Гидиной щеке.
…Княгиня уже давно безмятежно спала, тихонько посапывая, чуть приоткрыв рот, а Владимир всё лежал в смятении, забросив руки за голову и тупо глядя во тьму.
«Что ж ты наделал, отче?! Как же нам теперича жить?! Как тем же Изяславовым сынам в глаза глядеть?! – Немые отчаянные вопросы один за другим мрачной чередой выстраивались в возбуждённом мозгу. – Ты хотел земле блага?! Но рази ж мочно… рази мочно благие дела кровью, убивством вершить?! Нет, нет, отче! Но мне ли тебя судить, отче, княже великий?! Ты прав! Се страшно, дико, но – прав!!! С таковым бо князем, как Изяслав, не стоять земле Русской!»
Он заснул только перед рассветом, и снились ему объятый огнём черниговский посад и умирающий дядька-вуй его, воевода Иван, шепчущий: «Люби землю нашу! Ворогам ходу не давай!»
…Днём примчал на взмыленном коне нежданный гонец из Смоленска. Под городом объявился Всеслав с полочанами. Горят сёла, деревни.
Тяжкие ночные думы пришлось отложить. Стиснув зубы, вцепившись руками в поводья, летел Владимир по заснеженным приднепровским холмам. Алое корзно колыхалось у него за плечами. Не было мира на земле, только мечтать приходилось о спокойной тихой жизни. Гнев охватывал душу, и не было больше ничего – одно ожесточение, одно желание ответить ударом на удар.
Громыхая оружием, неслась вдоль берега княжеская дружина.
Глава 16. Ударом на удар
Опять всё возвращалось на круги своя: погони, стычки, пожары. Словно и не было прежних миров, утомительных походов и жарких сеч; прошлое повторялось, раз за разом, с пугающим размахом, неподвластное человеческой воле, как-то само по себе, и в дикой стихийной круговерти ломались и обрывались людские жизни.
Ещё издали Владимир узрел под Смоленском багряное зарево. Город, подожжённый с четырёх сторон, весь был охвачен дымом и пламенем. Всеслав, створивши злое дело, уже скрылся в полоцких лесах. Владимир, не мешкая ни часа, приказал дружине пересесть на свежих коней и ринуть в погоню. Скакали через лесные пущи, все в снегу и в поту, бешеным галопом.
Дорóгой дружинники жгли полоцкие сёла. Владимир хмуро и безучастно смотрел на плач и стоны смердов, на пылающие дома и уводимую скотину, на трупы. Уже не казалось творимое, как раньше, ужасным непоправимым грехом – просто он мстил Всеславу за сожжённую Смоленщину, за его волчьи наскоки, за пролитую кровь.
После стало-таки не по себе, подумалось: «Что ж мы, князи, зверей хуже?!» Но то будет после, пока же он не испытывал в душе ничего, кроме гнева, кроме яростного желания ответить на Всеславовы лиходейства той же мерой, разорить и опустошить его волость. Такова была жизнь – жестокая, несправедливая, от которой временами хотелось убежать, упрятаться за стеной монастыря, но которая захватывала, обволакивала, завораживала его, молодого двадцатипятилетнего князя, заставляя снова и снова окунаться в свой бешеный клокочущий круговорот.
…Всеслав бежал, укрывшись в дремучих пущах, перегородив путь преследователям засеками и колючими триболлами[102]. Не один Владимиров конь хромал, иных пришлось убить, оставив на съедение голодным волкам, серые стаи которых упрямо следовали за ратью.
В отместку за Смоленск Владимир сжёг и обратил в пустыню Логожск и Меньск[103]. Ополонившись, дружина поворотила назад, к Чернигову.
За спиной оставались разрушенные и разграбленные города. Мира не было, шла по русским равнинам жестокая, косившая люд брань.
…Людей Владимиру становилось жалко, он не мог смотреть на страдания жёнок, не мог равнодушно слушать душераздирающий детский плач, но когда слышал слово «народ», то исполнялся гневом и презрением. Спрашивал сам себя: что есть этот самый народ? Есть людины[104], есть посадские ремественники, купцы, бояре. Есть полочане, смоляне, вятичи[105], кияне, черниговцы. У них единая молвь, но разные устремления и помыслы. Под народом же Владимир разумел нечто враждебное и стихийное, ту подобную морской буре или всепожирающему пламени силу, которая когда-то свергла с престола Изяслава, а десятью годами позже со стрелами, топорами и дубинами загородила ему путь на черниговских стенах. И с народом таким готов был молодой князь сражаться, не жалея себя.
В будущем ему предстоит увидеть и узнать иной народ.
Глава 17. Красавица Сельга
На степных полях зеленел ковыль, синели васильки, на курганах, покосившись, застыли уродливые каменные изваяния. Стояла весна, степь благоухала травами, негромко токовали перепела, щебетали в чистом безоблачном небе жаворонки; простирая крыла, парил над полями хищный степной орёл.
Заголубел впереди Донец. Широко и привольно разлился он посреди бескрайней равнины. Показалась крепость с невысоким земляным валом, около неё во множестве виднелись разноцветные юрты, слышались удары кузнечного молота и скрип телег.
– Шарукань[106], – указал грязным перстом проводник.
Роман кивнул и, в нетерпении поджав губы, натянул поводья.
– Князь, надо торопиться, – подъехал к нему тонкостанный молодой грек в запылённом дорожном вотоле[107]. Чёрные вьющиеся волосы непокорно спадали ему на лоб из-под плосковерхой войлочной шапки.
– Ханы могут откочевать с зимовий на летние пастбища. Трудно будет потом найти их. Как перекати-поле, носит их по степи.
– Ведаю о том, Авраамка. Эй, отроки! – обратился Роман к ехавшему следом небольшому отряду воинов. – Разобьём тут стан, поставим походные вежи. А ты, – сказал он проводнику, – поезжай в город, поищи там солтана Арсланапу. Или хана Осулука. Или, на худой конец, бека Сакзю. Скажи: князь Роман измыслил идти в Русь.
Проводник поклонился, в знак почтения приложив руку к сердцу, взмыл на коня и галопом помчал к деревянным воротам – только пыль стояла столбом.
– Пустое это дело, князь. – Авраамка спешился, снял шапку и вытер ладонью потное чело. – Ханы не выйдут в Русь весною. Будут ждать осени. Посмотри на их коней – они изголодались за зиму на подножном корму, тощи и худы, скачут медленно. Вот нажрутся свежей травы, тогда, может, пойдут за тобой.
Роман с заметным неудовольствием слушал разумные слова молодого гречина. Красивое лицо его брезгливо поморщилось, уста презрительно скривились.
– Ты говоришь так, потому что ты – трус! – крикнул он, перебивая Авраамку. – Половцы – смелые воины, и за богатой добычей они пойдут хоть на край света! Пообещаю им большой полон, отдам на разор Всеволодовы сёла и деревни!
Авраамка вздохнул. Нет, никак не отговорить ему Романа от этой глупой затеи. Видно, твёрдо решил молодой князь пролить русскую кровь. Нетерпелив и криклив, как боевой петух.
Обернувшись, грек оглядел Романовых воинов. Все, как на подбор, крепкие удальцы. Таким ничего не стоит вмиг снести с плеч чью угодно голову. Все черниговские выкормыши, служили ещё в дружинах Романова отца, князя Святослава, исходили с ним сотни вёрст, за плечами у каждого – десятки кровавых сеч.
«“Под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены”, – вспомнил Авраамка слова старинной песни, взирая на харалужные шеломы и дощатые брони ратников. – Лихие люди. У таких один ветер шумит в головах. Сеча для них – пир и утеха. Мне ли, сыну церковного списателя, с ними по пути?!»
Один из воинов, широкобородый кряжистый мечник, подошёл к Авраамке и хлопнул его по плечу.
– Что, грек, закручинился? Воротимся вборзе[108] в Русь, ещё попируем в Чернигове, Всеволода прогоним с великого стола, посадим князя Романа! Девок красных любить будем! Эх, был у мя друг – Ратша! Силён, скажу вам, браты, – таковых боле не видывал. Зарубил Ратшу прошлым летом лютый ворог, Яровит, Всеволодов прихвостень! Кровник он мой отныне! Встречу где – голову срублю!
– Вот-вот, срублю, – пробормотал, укоризненно качая головой, Авраамка. – Одни помышления у тебя только – рубить, сечь, колоть, резать.
– Такие уж мы люди, – смеясь, молвил другой воин. – Пото и место наше – в поле ратном.