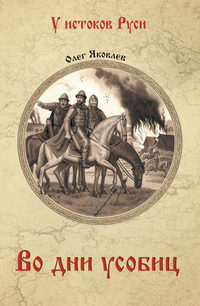
Во дни усобиц
Из ворот крепости выехал, трясясь на тощей кобылёнке, молодой половец. Кольчужный юшман его поблёскивал в лучах вешнего солнца. Следом за ним ехал Романов проводник.
– Эй, каназ Роман! – крикнул половец в юшмане. – Хан Осулук и солтан Арсланапа ждут тебя.
– Еду! – коротко отрезал Роман. – Авраамка! Садись на конь! Поедешь со мной.
Гречин покорно сел в седло. Ему изрядно надоела нескончаемая тряска и бесполезные уговоры. Роман упрям, как непокорный степной конь-тарпан, он не слушает никаких разумных доводов. Нет, не такому властителю хотелось бы Авраамке служить!
«Звали ведь к уграм. Софья Изяславна, вдовая королева, хотела. Вот если вырвусь отсюда, уеду. Будь что будет».
Авраамка хмуро взирал на земляные валы и колья.
«Ну и крепость! Смех один! Взять такую на щит русскому воину – раз плюнуть. Наши ведь привычны брать и деревянные детинцы, а то и каменные».
Он невольно улыбнулся. Надо же, «нашими» назвал руссов. Но ведь для него руссы и вправду «наши», он вырос среди них, был окружён этими людьми с детства.
В глазах запестрело от множества юрт, кибиток, глинобитных домов.
В городе стоял невообразимый шум, ржали кони, ревел скот, раздавалось щёлканье нагаек, слышались громкие гортанные выкрики.
Прямо на телегах высились огромные шатры, около них лежали или ходили двугорбые белые верблюды. К одному из таких шатров в центре города и подвели Романа с Авраамкой. Тучный приземистый половец в калантыре и аварском шеломе жёстко, исподлобья осмотрел гостей, велел им спешиться и, откинув войлочную занавесь, повёл за собой.
Посреди шатра горел огонь. Вокруг него на подушках, поджав под себя ноги, сидели несколько половцев в халатах из бухарской зендяни и серского шёлка.
– Садись, каназ Роман. Да не застят тебе тучи звёзд на небе, – прохрипел старый хан Осулук, кустобородый, худой, как высохшее дерево, с морщинистым жёлтым лицом. – Говори, какое к нам у тебя дело. И ты садись, – сказал он Авраамке.
Грек внезапно почувствовал, как по спине его бежит предательский холодок. Стало страшно: вот сейчас возьмут и убьют их, зарежут, как баранов! Что стоит этим сыроядцам!
Но солтаны и беки[109] доброжелательно кивали головами, тряся узкими козлиными бородками.
– Достопочтимый хан! – начал Роман. Щёки его окрасил румянец волнения.
– О делах будем говорить потом, – мягко улыбаясь, перебил князя Осулук. – Сначала раздели с нами трапезу.
По его знаку прислужники, среди которых Авраамка заметил нескольких руссов, внесли чаши с кумысом и сладким, горячащим кровь красным вином. Затем появилось огромное блюдо, на котором лежал зажаренный целиком верблюжонок, следом подали жирную баранину и плов в большом котле.
«Господи, прости! Пост ныне, но как откажешься? Убьют ведь, ироды!» – Авраамка, опасливо озираясь, перекрестился и взял в руку ароматно пахнущий сочный кус баранины.
Ели молча, половцы громко чавкали и урчали от удовольствия. Авраамка с насторожённостью смотрел на их острые, как у волков, зубы.
«Дикари, одно слово! Варвары!» – думал он.
После обильной трапезы многие половцы, встав и отвесив хану поклоны, вышли, остались только сам Осулук и Арсланапа.
– Каназ Роман! – начал Осулук. – Ты мой друг. Твой отец был мой друг. У меня нет от тебя тайн. Сейчас я покажу тебе наших красавиц. Хочешь, я отдам тебе самую красивую, самую лучшую?!
Он взмахнул рукой и крикнул что-то хриплым скрипучим голосом. За войлочной занавеской зазвенел бубен.
Перед изумлёнными Романом и Авраамкой выплыли шесть молодых половчанок в лёгких шальварах и коротких разноцветных рубашках. Они понеслись, закружились под звуки зурны в каком-то неистовом танце. Обнажились упругие животы с играющими мышцами, под тонким шёлком колыхались груди, улыбки скользили по скуластым смуглым лицам. Особенно хороша была одна половчанка – гибкая и стройная, вертелась она в танце вокруг Романа, пурпурный шёлк струился перед его жадно впившимися в красавицу глазами.
– Кто сия молодица? – не выдержав, шёпотом спросил он Осулука.
Хан хлопнул в ладоши. Красавицы исчезли за занавесью.
– Вижу, тебе приглянулась Сельга. О, это знатная кипчанка! Калым, за неё надо платить калым! Большой калым!
– Я заплачу. Отдай её мне.
– Ой, ой! – смеясь, погрозил грязным перстом Осулук. – Ты спешишь, каназ. Ты всегда такой торопливый. Хорошо, ты получишь Сельгу.
«Ишь, старый боров. Нашёл чем прельстить, – подумал с усмешкой Авраамка. – А девка в самом деле хороша. Вот только зачем он суёт её Роману? Видно, у хана свои замыслы».
– Достопочтимый хан! – Роман поднял руку. – Имею к тебе дело. Я знаю, твои воины смелы, а твои кони быстры, они обгоняют степной ветер. Мне нужна помощь, я хочу воротить стол моего отца, Чернигов. Хочу выгнать из Киева князя Всеволода. Его люди убили моих братьев – Глеба и Бориса, прогнали в Тмутаракань ещё одного брата – Олега. Я не хочу быть изгоем. Хочу отомстить за братьев, за их смерть и поражения!
– Что дашь нам? – перебил Романа молчавший доселе Арсланапа. – Нужны рабы, полон, кони, богатая добыча.
– Отдам вам на разор сёла и деревни по Днепру, – не моргнув глазом, отчеканил Роман.
«Конечно, что ему люди – пахари там или ремесленники! Месть, власть, глупые мечты затмили разум самонадеянного мальчишки! А потом – как княжить будет?! Над кем, над чем властвовать?! – с горечью думал, хмуро взирая на пламя костра, Авраамка. – Над одними руинами, полями выжженными, воронами хищными?! Нет, не такой мне нужен властелин. Имел бы о земле, о подданных своих заботу, оберегал бы их от вражьего меча. А этому – только бы отомстить да властью насытиться. Гордыней преисполнен, ума же – ни на грош!»
– Ты хорошо сказал, каназ! – улыбнулся Арсланапа. – Но сейчас наши кони скачут плохо, зима была холодная и голодная. В степи был джут[110], много коней пало. Поживи у нас, дождись лета. Тогда выйдем в Русь. Я клянус тебе в этом!
– Посадим тебя в Киеве, возьмёшь в жёны прекрасноликую Сельгу, – добавил Осулук. – Потерпи, недолго коршуну парить. Колчан охотника полон стрел. Недолго каназу Всеволоду сидеть в Киеве.
Половцы переглянулись и залились пронзительным неприятным смехом.
«Будто птиц хищных клёкот! – набожно перекрестился Авраамка. – Ох, Русская земля! Напасть опять на тебя, многострадальную!»
Глядя на смеющихся половцев, натянуто улыбнулся и Роман. Приходилось терпеть, ждать. Этот ничтожный человечишко, паршивый грек, к сожалению, оказался прав.
…В свой стан Роман и Авраамка воротились уже вечером. Хмуро стянув с плеч кольчатую бронь, Роман устало повалился на кошмы и тотчас захрапел. Авраамке же не спалось, он долго беспокойно ворочался, наконец не выдержал, встал и тихонько выбрался из вежи[111].
Красная луна горела над степью, с шуршанием гнулись под порывами ветра высокие травы, с реки доносились негромкие голоса половецкой сторожи.
Неизбывная тоска светилась во взоре пылающих чёрных глаз Авраамки.
Идти против Руси – нет, он убежит от Романа, уйдёт, как только представится такой случай, нечего делать ему среди этих грубых воинов и диких степняков. Его место – княжеская библиотека, книги в деревянных окладах с медными застёжками, свитки; не меч, но гусиное перо – его оружие. Эх, страсти, неистовые страсти! Пламенная любовь к русской красавице-княгине, Роксане, вдове князя Глеба – вот что вынесло его на степные вольные просторы. Где она теперь, Роксана? Наверное, доживает век свой за непроницаемой монастырской оградой, ходит в чёрном повое, скрывающем проседь в шелковистых русых власах.
О, как она прекрасна! У неё серые с голубинкой, чуть насмешливые глаза, немного припухлые уста, прямой тонкий нос, изогнутые дуги бровей, она стройна и статна. А её изящные ножки, обутые в красные сафьяновые сапожки! А длани её с длинными тонкими перстами, ласковые и сильные! Нет, не забыть этой невиданной красы! Иной такой Роксаны нет в мире.
Громко зашуршала около вежи высокая степная трава. Авраамка порывисто обернулся.
«Какой зверь или лихой человек?» Он крадучись, затаив дыхание, пробрался поближе к вежам.
Из густых зарослей показалась голова в мохнатой лисьей шапке.
– Где каназ Роман? – до ушей Авраамки долетел мягкий девичий голосок.
– Он здесь, в веже, спит. Что ему передать? – отозвался, выпрямившись во весь рост, грек.
Он узнал быстроглазую красавицу Сельгу. Половчанка подошла к Авраамке вплотную и тронула его за рукав вотола.
– Веди меня к каназу! Я убежала из стана, никто не видел! О, как он красив! Какое у него лицо! Каназ, настоящий каназ! Батыр!
Она прерывисто, тяжело дышала. Лёгкая шёлковая рубаха вздымалась на её груди, алые уста подрагивали от волнения.
Авраамка побежал будить Романа.
– Кличь вборзе её! – продирая заспанные глаза, вскричал князь. – А сам покуда возле вежи постой, посторожи. Не понаехали б её родичи, не хватились бы!
Роман довольно потирал руки.
Сельга не вошла – ворвалась в вежу.
– Каназ, хочу тебя! Не могу ждать! Бери, бери меня всю!
Она разорвала на груди рубаху. Перед глазами восхищённого князя заколыхалась озарённая огнём очага большая упругая грудь с округлыми сосками. Полетели в сторону шальвары, обнажились хорошенькие смуглые ножки. Вне себя от восторга, весь во власти неукротимых страстей, Роман крепко стиснул Сельгу в объятиях. Половчанка завизжала, засмеялась, откинув назад иссиня-чёрный каскад волос, он повалил её на кошмы и впился в сладкие чувственные уста.
…Авраамка почти до рассвета просидел, кутаясь в продымлённый старый вотол, у входа в вежу. Зубы его отбивали барабанную дробь, в мыслях он проклинал половчанку за безоглядчивость, но вместе с тем и дивился её нахальной смелости.
«Огонь-баба! Только таких и любят могутные храбры[112]. Как называют их в русских былинах?.. А, вспомнил – поленицы. Воистину, поленица и есть. Никакого страха в душе».
Он, Авраамка, тоже любил такую женщину – отчаянную, бедовую, с открытой душой, но в Роксане была ещё величавость, спокойная строгость и светлая северная красота. У половчанки, конечно, ничего такого нет и не могло быть, она более порывиста, страстна, резка в движениях.
Авраамка усмехнулся, внезапно удивившись сам себе: как мог он сравнивать этих двух женщин?! Что между ними общего?! Кто вообще может сравниться с Роксаной?!
Воистину, от безделья всякая нелепица лезет в голову.
…Незадолго перед рассветом на плечо задремавшего было Авраамки легла смуглая женская ладонь, унизанная перстнями с рубинами и смарагдами.
– Мне пора. Проводи до вала. – Сельга потянула его за руку.
Петляя между вежами, они окунулись в синюю предутреннюю мглу.
Глава 18. Расплата за глупость
До середины лета скитался Роман, как одичалый, отбившийся от стаи степной волк, по половецким станам. Всюду его принимали с почётом, льстили, обещали помощь, но, когда речь доходила до дела, разводили руками:
– Сейчас, каназ? Нет, каназ, кони устали. Бескормица, джут. Подожди, потерпи.
Носились за Романом по степи его дружинники, хмурые, бронзоволицые от загара, трясся на своей кобылёнке, казалось, равнодушный ко всему земному Авраамка. Взгляд его, полный укоризны, словно бы говорил Роману:
«Говорил же тебе, князь: пустая эта затея».
Роман распалялся, гневался, грозил кулаком невидимому врагу, щедро рассыпал перед ханами звонкие монеты, но всё было тщетно. Половцы продолжали улыбаться и выжидать.
Уже совсем было отчаялся Роман, но вот единожды к его раскинувшемуся на донецком берегу лагерю подлетел на мохноногой приземистой кобыле старый бек Сакзя.
– Эй, каназ Роман! – закричал он. – Хан Осулук сказал: идём в Рус. Балшой полон брать! Каназ Всеволод лес гнать! Каназ Роман Киев сажать!
Роман, как был, босой, в одной белой посконной рубахе с косым воротом, выскочил из вежи. Сердце его радостно колотилось. Наконец настала пора вожделенного мщения! Он щедро одарил доброго вестника и бросил через плечо мрачному Авраамке:
– Гоним в Шарукань! Вборзе!
Снова неслись они по степи, лица обжигал горячий суховей, на зубах скрипел песок, мучила жажда. Над степью стояло марево, катились шары дикого кустарника, громко шуршала под копытами вымахавшая местами в человечий рост сухая трава. Дикое поле – Дешт-и-Кипчак – простиралось перед глазами, уходило за окоём, оно казалось безжизненным, но таило в себе грозные враждебные силы.
«Вложена в лук калёная половецкая стрела, – думал с горечью Авраамка. – Того и гляди, выстрелит. И наконечник этой стрелы – безрассудный и лихой князь Роман. Только как бы не обломилась стрела, не перерубил бы её харалужный русский меч».
…Хан Осулук был добр, улыбался, пил, прихлёбывая, из золотой чаши охлаждённый в земле кумыс, говорил просто и ясно:
– Пойдём на Сулу, на Воинь. Будем грабить сёла, деревни. Ты, каназ, поведёшь нас на Киев. И Сельга поедет с нами. Сделаем её княгиней!
Он смеялся, а Роман пил за его здоровье сладкое греческое вино.
…В конце июля половцы вышли в Русь. Роман со своей дружиной стал лагерем неподалёку от устья многоводной Сулы. В вечерних сумерках пылали окрестные сёла, доносились оттуда душераздирающие вопли и плач – там хозяйничали Романовы «друзья и соузники». Стаи воронья кружили в высоком небе, дымились леса, чёрные столбы пожарищ подымались над прибрежной равниной.
…Осулук и Арсланапа разбили свой стан под Воинем, на противоположном, правом берегу Сулы, и каждую ночь с тихим плеском плыла через реку рыбацкая лодка. С неё спрыгивала и бежала, ломая камыши, задыхаясь от радостного возбуждения, юная половецкая красавица. Роман ожидал её на вершине кургана, она летела в его объятия, как необузданная лихая кобылица, они падали со смехом в высокую траву и утопали до рассвета в сладком грехе.
Воинь затворился, на деревянных стенах виднелись ратники в булатных шишаках[113]. Половцы не приступали к осаде, чего-то выжидая. Медленно рысили за Сулой их низкорослые, откормленные на вешних лугах лошадёнки.
«Чего они ждут? Тут нечисто, – соображал обеспокоенный Авраамка. – Не сговариваются ли за нашими спинами со Всеволодом?»
Догадки проницательного грека вскоре подтвердились. В канун Ильина дня, первого августа, за Днепром взмыли в небо киевские хоругви с крылатым белым архангелом на светло-голубом фоне. Показалась кольчужная русская рать. Шли вместе с дружиной и пешцы, на солнце поблёскивали их бердыши[114] и секиры.
На заречных холмах зажглись огни костров, ближе к вечеру у самой воды появились конные разъезды.
У Авраамки на душе было муторно, грызло его какое-то непонятное тягостное предчувствие.
В сумерках, как всегда, в лагерь Романа примчалась Сельга. На сей раз она не таилась, в миндальных глазах её светилось беспокойство, движения были быстры и порывисты, трепетные ноздри раздувались от волнения. В ушах девушки качались изумрудные серёжки, звенели на тонкой шее мониста, она говорила тяжело дыша, с тревогой и печалью:
– Каназ Роман! Беги! Я слышала… К хану Осулуку… приезжал боярин… Из Киева боярин… – Она пощёлкала пальцами, вспоминая имя. – Ра-ти-бор, – с трудом выговорила она. – От каназа Всеволода. Хан Осулук, солтан Арсланапа, бек Сакзя – все получили золото, серебро. Много серебра. Они клялись, взяли мир с каназом Всеволодом. Ночью они уйдут в степь. А каназ Всеволод завтра может напасть на тебя. Беги, Роман!
Сельга прижалась черноволосой головкой к Романову плечу, слёзы брызнули у неё из глаз, князь обхватил её за судорожно вздымающиеся вздрагивающие плечи.
Стоящий рядом на склоне кургана Авраамка решил вмешаться.
– Князь, надо уходить. Прекрасноликая Сельга права. Брось это дело. Видишь, ханы предали тебя. Я знал, чуял, что так будет. Давай, отъедем в Киев. Князь Всеволод не захочет твоей крови. Сядешь в Муроме или в Рязани. Великий князь не обидит тебя.
– Он правильно, мудро говорит, – подхватила Сельга.
– Замолчи, презренный трус! – не сдержавшись, заорал Роман.
Отстранив девушку, он выхватил плеть и с яростью полоснул ею Авраамку по лицу.
Молодой грек, закрывая ладонью окровавленную щёку, бросился прочь, стеная от невыносимой боли и обиды. Надо же, советовал, хотел как лучше, был верен Роману во всём, старался исполнять все его прихоти, и вот: получил награду!
Не разбирая дороги, бежал Авраамка, приподняв полы долгой грубой свиты, прямо через поле, спотыкаясь о кочки, раня руки об острые стебли травы.
Наконец, устав, он сел, прислонился спиной к каменному истукану на кургане и горько разрыдался.
Тем временем Роман, багровый от гнева, мчался на коне через Сулу. Сельга спешила за ним, крича вослед:
– Не нада! Не езди! Стой! Тебя убьют!
Конь вынес всадника в половецкий стан. Спрыгнув наземь возле ханского шатра, Роман оттолкнул стражника и отдёрнул войлочную занавесь.
– Садись, каназ, – доброжелательно улыбаясь, сказал Осулук. – Давно жду тебя.
– Ты сидишь здесь, а киевские рати выстроились уже на том брегу! Пора идти в бой, хан! Ведь ты клялся помочь мне! – крикнул в ярости Роман.
Он отказался сесть и стоял перед ханом, красивый, гордый, широкоплечий, охваченный безудержным гневом.
Осулук спокойно отхлебнул из золотой чаши кумыс.
– Ты нехорошо поступил, каназ. Ты обманул меня. Зачем ты проводишь ночи с Сельгой? Ты не платил за неё калым, не говорил с её отцом. Она – не твоя!
– Не о Сельге пришёл говорить! Потом, после с ней разберёмся!
– Мы взяли с каназом Всеволодом мир. Много золота дал каназ.
– Что?! Как смел ты, хан?! – вне себя от злобы, заорал Роман.
Он вырвал из отделанных серебром ножен харалужный меч, замахнулся на Осулука, но в тот же миг один из ханских телохранителей, застывших у входа, кривой саблей рассёк ему голову. Обливаясь кровью, Роман упал на хорезмийский дорогой ковёр.
– Уберите отсюда эту собаку! – приказал своим слугам Осулук. – Выбросьте его в поле, пусть голодные волки и птицы жрут его!
Он презрительно усмехнулся, глядя на красивое мёртвое лицо Романа, по которому густо сочилась кровь.
– Горячий был батыр! – вздохнул кто-то из телохранителей.
За занавесью закричала, забилась в рыданиях обезумевшая от горя Сельга.
Глава 19. Сардониксовый орёл
Выложенный из красного кирпича большой дом со стрельчатыми окнами и круглыми башенками, устремлёнными в голубой небесный простор, окружала высокая каменная ограда. Отделанные мрамором провозные ворота украшал затейливый меандр[115], слева и справа от них тянулась кружевная чугунная решётка, к крутому крыльцу вела дорожка из гранитных плит.
Авраамка несмело потоптался под окном и вопросительно оглянулся на усатого стража.
– Княгиня тут?
– Тут, тут. Сей же часец доложат о тебе. Сожидай, – буркнул страж. – И чё от её нать?
– Да она меня узнает. С Нова города ещё, давние мы знакомцы. Чай, не забыла списателя Авраамку.
Распахнулась дощатая дверь. Дворский окликнул нежданного гостя:
– Входи. Княгиня Роксана хощет тя зреть. В палату ступай.
Авраамку провели в горницу с высоким побеленным потолком. На стенах висело оружие, серебрилась боевая кольчуга, в кожаном колчане виднелись оперения стрел.
Вдовая княгиня Роксана, в чёрном вдовьем платье и повое на голове, стояла посреди горницы. Прекрасное лицо её было бледно, кожа имела мертвенный желтоватый оттенок, большие, привычные к работе ладони нервно сжимали разноцветные чётки, на белках воспалённых глаз краснели тонкие жилки.
Авраамка молча рухнул перед красавицей на колени.
– Сей же час встань! – властно прикрикнула на него Роксана. – Говори, почто пришёл?! Какую весть недобрую несёшь, чёрный ворон?!
– Скажи, прекрасноликая, в чём моя вина пред тобой?! Княгиня, жалимая, лада моя! До скончания дней… – Авраамка упал перед ней ниц, ударившись лбом о пол.
– Перестань! Подымайся, кому сказано! – Роксана гневно топнула ногой в чёрном выступке[116]. – Да кто ты таков?! Червь книжный! Кознодей зловредный! Помню, как уговаривал ты меня передаться Всеволоду. Вопрошаешь, в чём вина твоя?! Так вот, ежель люба я тебе, поведай, как погиб муж мой, князь Глеб. Ничего не сокрывай! И поклянись на кресте святом, что не солжёшь! И помни: того, кто роту порушит, адские муки сожидают! Не будет тому спасенья!
– Хорошо, я скажу! Клянусь на святом кресте, только слова правды сойдут с моих уст! – Авраамка приложился губами к холодному серебру большого креста, поданного Роксаной.
– Сядь! – указала вдовая княгиня на скамью.
Авраамка несмело опустился на рытый иноземный бархат. Княгиня, положив руки на колени, села на лавку напротив.
– В глаза гляди! – резко прикрикнула она.
Их взоры встретились. О Боже! Как два кинжала, пронзают сердце Авраамки эти лучистые серо-голубоватые очи с долгими бархатными ресницами. Они прозрачны, как северные озёра в лесной русской глуши, в них – вся прелесть жизни, вся земная краса, величавость и строгость, смешинка и укор, гнев и пламень!
– Я знал, что Глеба хотят убить… – начал хриплым голосом грек.
– Знал – и не упредил меня! Ничего не сказал! – воскликнула Роксана. – И ещё о любви тут лопочешь?! Да как ты смеешь!
Глаза её полыхнули огнём.
И тут уже не сдержался Авраамка. Он вскочил со скамьи и заходил по горнице, размахивая руками; в голосе его слышалось едва скрываемое возмущение.
– Да, не упредил! И сейчас так же бы поступил! Ибо что Глеб был за князь?! Что сделал он доброго – для Новгорода, для Руси?! Ничем не славен был, кроме жестокости звериной! Отец мой, списатель церковный, стар и полуслеп был, переписывал Евангелие, сделал две ошибки, так он его пороть велел, на дворе, прилюдно! Отец позора не вынес, испустил дух! И что, я после этого князя Глеба возлюбить, возблагодарить должен был?! Прямо скажу, Роксана, лада милая: недостоин тебя этот князь, был он гневлив и чванлив, и крут не в меру! И не отца он моего опозорил там, на дворе красном, – себя!
Поднявшаяся с лавки Роксана испуганно отшатнулась.
– Не ведала я того, – прошептала она, бледнея, чуть шевельнув сухими устами.
– Нет в том твоей вины, – немного утишив клокотавший в душе гнев, Авраамка сел обратно на скамью и, смягчившись, продолжил: – В Новгороде все были против князя Глеба – и бояре, и купцы, и ремественный люд. Потом пришла весть: едет к нам князь Святополк, а с ним вместе Всеволодов боярин, Яровит. Ну, меня и уговорили ворота крепостные тайком им отпереть. Славята, боярин, всё говорил: «Спасёшь княгиню Роксану от Глеба». Не знали тогда ещё, что князь Глеб в чудь бежал. А после… Сговорились убить князя.
– Кто велел убить?! – К Роксане вернулась прежняя твёрдость, она горделиво вскинула голову в повойнике.
– Славята и Яровит. Князь Святополк тоже ведал. Не хотел он поначалу смерти Глеба, Яровит его уговорил. А Яровиту, думаю, князь Всеволод повелел. Сам бы он на такое не осмелился.
– Почто тако мыслишь?! – Роксана гневно сдвинула соболиные брови.
– Убил князя Глеба Всеволодов гридень, Бьерн, нурман. В селе одном дальнем, на болоте, за Корелой.
– Тако и я мыслила. Всеволод! Одни несчастья принёс он дому нашему, – задумчиво, обращаясь словно бы сама к себе, сказала Роксана.
– Бьерна потом Славята зарубил…
– Хватит! Довольно! – поморщилась княгиня. – Противно слушать тя!
– Всё как на духу, одну правду тебе поведал. – Авраамка размашисто положил крест. – Потом за тобой следом в степи я ускакал, с тобой вместе до Тмутаракани добрался. Услыхал, ты на Русь вернулась. Ну а я к Роману вот пристал.
– Есть кара Божья! Постигнет она тебя, Ярославич! – зловеще шептала Роксана, смотря куда-то в темноту мимо растерянного Авраамки. – Глеб! Роман! Борис!
– Романа не хотел никто убивать. Он сам виноват. Я не смог его удержать и спасти. Каюсь в том.
– Неповинен ты в смертях сих, – внезапно потеплевшим голосом промолвила княгиня. – Спаси тя Бог, Авраамка! Открыл мне истину. Теперь уйду я…
– Куда, прекрасноликая?! Хочешь, я увезу тебя отсюда, из этого дома?! Далеко, за степи и горы! Туда, где не будут мучить тебя горестные воспоминанья!
– Нет, списатель, – грустно улыбнулась Роксана. – Путь мой в монастырь лежит. Княжна Янка в Царьград поплыла, толковала с митрополитом. Воротиться должна вот. И будет у нас на Руси своя обитель женская.
– Но ты молода, красна собою. Зачем губить свою красу за монастырской стеной?! – вскричал, снова вскочив на ноги, Авраамка.
Будто только сейчас заметил он красные жилки у неё на белках, увидел желтизну кожи, крохотные точечки угрей на тонком иконописном носу, морщины, седую прядь выбившихся из-под повойника шелковистых волос.
– Ты больна? Тебе нужен покой? – озабоченно спросил он.
– Нет, я болела, но Бог помог мне. Не отговаривай. Твёрдо умыслила я уйти от мира. В келье спокойней будет век свой доживать.
Сам не зная как, Авраамка порывисто обхватил Роксану за тонкий стан.