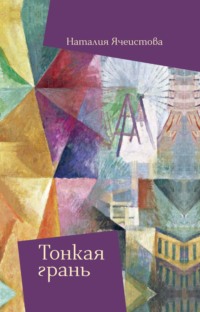
Тонкая грань
Как-то зимним морозным днём Полина Викторовна выбралась на очередную прогулку. Холод её не пугал, она даже любила его. Походив по склонам, она спустилась к замёрзшей реке покормить плавающих в полынье уток. Затем повернула в сторону оврага. Тут ей ещё не доводилось бывать. Несмотря на стужу, меж тёмных отполированных камней резво бежал ручей. Над ним нависали, причудливо раскинув ветви, старые деревья с потрескавшейся корой, покрытые шапками снега. «Ох, красота!» – воскликнула Полина, пожалев, что не может сделать фото. Картина открывалась воистину сказочная, и невозможно было поверить, что где-то в получасе ходьбы течёт обыденная жизнь современного города.
Полина пробиралась вдоль ручья, придерживаясь за ветки и каменистые уступы. Радостное возбуждение охватило её, будто она скинула лет тридцать и вот снова, молодая и красивая, бодро взбирается в снежную гору. По пути ей попадались указатели, припорошенные снегом. «Природные источники, – прочитала она, остановившись на изогнутом деревянном мостике. – Живая и мёртвая вода, Голосов овраг». «Ну и ну! – подумала она с удивлением. А я-то думала, такое только в сказках бывает!» Полина остановилась передохнуть. Удивительно, она гуляла уже более часа, но ни холода, ни усталости не чувствовала.
– А отличный выдался денёк! – раздался вдруг поблизости зычный мужской голос. Обернувшись, она увидела идущего по направлению к ней высокого поджарого мужчину лет пятидесяти в синей куртке и вязаной шапке. Шёл он быстро и уверенно, раздвигая на ходу ветки. Поравнявшись с Полиной, он остановился и, приветливо глядя на неё, повторил:
– Отличный выдался денёк!
– Да, – согласилась Полина. – Как говорится, «мороз и солнце – день чудесный!».
– Одно удовольствие в такую погодку прогуляться! Не правда ли?
– А я в любую погоду с удовольствием гуляю, – парировала Полина. – По-моему, тут всегда хорошо.
– Согласен, согласен… – кивнул мужичина. – Но всё же зимой здесь особенно прекрасно… А как вас зовут, позвольте узнать? – спросил он, приблизив к ней своё румяное лицо.
Тёмно-серые глаза его живо смотрели из-под густых заиндевевших бровей.
– Полина Викторовна, – представилась Полина, пожав плечами, как бы недоумевая, зачем им знакомиться.
– А меня – Сергей Петрович. Так вот, уважаемая Полина Викторовна, не хотите ли подняться вон на тот холм – там, где когда-то село располагалось, знаете? Оттуда вид открывается – на всю округу!
– Что ж, давайте поднимемся, – ответила Полина, почувствовав новый прилив сил. Этот невесть откуда появившийся мужчина, сильный и энергичный, представлял собой вполне приятную компанию. Одет, правда, бедновато: куртка старомодная, потёртые брюки. Но да ведь не это главное, тем более на природе!
– Хотите яблоко?
Мужчина, словно фокусник, достал из кармана и протянул ей светло-зелёное яблоко.
Полина взяла и надкусила его, в лицо ей брызнул сок.
– Какое яблоко вкусное! – с удивлением воскликнула она. – Что это за сорт?
– Белый налив. У меня на балконе целый ящик с лета стоит. Я если куда-нибудь иду, всегда с собой прихватываю.
«У меня на балконе», «прихватываю», – то, что он говорил о себе в единственном лице, тоже было приятно Полине.
Они поднимались теперь между деревьев гуськом – Сергей Петрович впереди, Полина за ним. Он всё время что-то рассказывал, оборачиваясь на ходу, будто рад был найти в Полине благодарного слушателя.
– Сюда, к источникам обычно много людей приходит за целебной водой, а сегодня что-то никого. Может, холода испугались. А вы, Полина Викторовна, получается, холода не боитесь?
– Нет, не боюсь.
– Вы, наверное, как и я, спортом занимаетесь?
Полина Викторовна сроду никаким спортом не увлекалась, но, чтобы поддержать беседу, неопределённо поддакнула.
– Спорт – это здорово! – продолжал Сергей Петрович. – А наши-то, молодцы: на Олимпиаде в Инсбруке первое место заняли! А мы вот с друзьями, знаете ли, летом то и дело в Раздоры ездим, в волейбол играем. Там много площадок, всё оборудовано. Здорово так! У нас целое волейбольное братство – играем, под гитару поём! Даже свой гимн сочинили. Приглашаю вас летом присоединиться!
– А где вы работаете? – не сдержала своего любопытства Полина, глядя на мелькавшие перед ней стоптанные задники ботинок Сергея Петровича.
– В министерстве радиопромышленности, – ответил он, повернувшись. И спросил в свою очередь: – А вы?
Полине не хотелось сознаваться, что она уже на пенсии, и она назвала своё последнее место работы:
– В библиотеке. А вы любите читать?
– Да. И библиотеку районную посещаю.
«Надо же, – с удивлением подумала Полина. – Ещё кто-то в библиотеки ходит!» В последние месяцы своей работы она обычно проводила всё время в одиночестве среди пыльных стеллажей. Захаживали иногда разве что старые интеллигентки, спрашивающие Бальзака, Толстого, Диккенса и прочих классиков.
– И кино люблю, – бодро продолжил Сергей Петрович. – Вы на Московском фестивале были? Фильм Куросавы видели?
– Какой фильм? – спросила Полина Викторовна, слегка запыхавшись. Ей пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. Сергей Петрович, заметив это, остановился и протянул ей руку.
– Ну этот, «Дерсу Узала».
– А-а… – неопределённо протянула Полина Викторовна.
Они стояли на возвышенности среди занесённых снегом, скрюченных, будто от холода, деревьев. Солнце скрылось за плотной пеленой облаков, и серое, в тёмных прожилках небо гранитным сводом нависло над землей.
Какой-то холодок вдруг проник в грудь Полины Викторовны. Она медленно повернулась и пристально посмотрела на Сергея Петровича.
– А вы обычно фильмы в кино или в ютубе смотрите? – спросила она, замирая.
– В каком таком «ютубе»? – усмехнулся он. – В кино. У меня и кинотеатр под боком, «Ударник».
Полина Викторовна отшатнулась и, оступившись, заскользила вниз с обрыва, хватаясь за ветки, падая, поднимаясь и снова падая. Пыталась бежать, утопая в снегу. Наконец, упав в очередной раз, растянулась на земле и лежала некоторое время не шевелясь. Кругом стояла мёртвая тишина, только сердце ухало в груди, словно набат.
«Ну, может, просто псих, – проносилось в голове. – Может, просто не от мира сего. Или прикидывается, шутит… Не может же быть… Не может быть…»
Она с трудом поднялась и побрела по едва заметной тропинке, петлявшей среди деревьев и валунов. Местность казалась незнакомой. Присыпанные снегом деревья и кустарники напоминали декорации на заброшенной съёмочной площадке. Это был какой-то совершенно другой мир. С какой стороны они пришли? Где город? Она прислушалась: ни звука.
– Ау! – позвала она надрывно. – Кто-нибудь! Ау! Ау!
Полина озиралась в надежде кого-нибудь увидеть, но её окружали лишь согнутые немые деревья. И эхо гулко отзывалось в вышине: «У-у», «У-у…»
Корень зла
Прошло уже почти тридцать лет с тех, как Антонина, выйдя замуж за своего сокурсника Сергея, уехала из Москвы и обосновалась на родине мужа, в Пензе. Не сразу привыкла она к новому месту: всё было здесь иным – и природа, и город, и люди. Поначалу казалось ей даже, будто очутилась она за границей – настолько странными представлялись ей суждения местных жителей, их заботы и интересы. Неуютно ей было после Москвы в этом просторном, но безыскусном по столичным меркам городе. Трудно было налаживать здесь собственную семейную жизнь. Но потом, после рождения сына Васютки, центр её вселенной сместился внутрь семьи, окреп, устоялся – и больше уже тоска по московскому дому не мучила её. Всем она была довольна: с мужем они жили хорошо; работа в поликлинике, куда она вскоре устроилась, нравилась ей и соответствовала её специальности. Муж тоже работал врачом – в больнице, зарабатывал неплохо, так что жаловаться им не приходилось.
Но жизнь не бывает бесконечно гладкой, а состоит обычно из полос, начало и конец которых отмечены какими-то вехами – радостными или печальными. Вот и у неё после долгого спокойного периода семейной жизни наступил иной этап. Вася, окончив институт, нашёл работу в Петербурге и приезжал теперь домой редко – обычно раз в год, выкроив несколько дней из отпуска… А потом случилось в семье несчастье – внезапно умер её муж Сергей от инфаркта; сам был кардиологом, других лечил, а себя не уберёг… И осталась Антонина одна в двухкомнатной квартире, которая раньше казалась ей тесноватой, а теперь стала слишком просторной. Заглянув в открывшуюся ей пустоту, Антонина испугалась и опечалилась, начала испытывать ностальгию по Москве, где она выросла и где до сих пор жил её младший брат Андрей со своей семьёй. А Пенза, долгие годы бывшая для неё вторым домом, снова стала казаться чужой, неприветливой, провинциальной. О том, чтобы перебраться насовсем в Москву, она пока не помышляла, но, когда охватывала её тоска и чувство одиночества (а такое порой случалось, несмотря на её жизнестойкий характер), она созванивалась с братом и ехала к нему в гости. С Андреем их с детства связывала крепкая дружба, были они по-настоящему близкими, родными людьми. Можно было бы, конечно, съездить как-нибудь и к сыну в Питер или к лучшей подруге Кате в Омск, но Вася был ещё не вполне устроен, и ей не хотелось его стеснять, а Омск находился слишком далеко. Так что с сыном и Катей она общалась в основном по скайпу, а в гости ехала неизменно к брату.
Андрей с женой и дочкой жили в Москве в трёхкомнатной квартире в Черёмушках. Когда приезжала Антонина, ей отводили отдельную комнату, служившую брату кабинетом; тут Антонина чувствовала себя всегда как дома: вокруг на полках стояли знакомые ей с детства книги (Андрей бережно сохранял семейную библиотеку), да и вся обстановка казалась ей родной. Встречали Антонину всегда радушно – может, потому, что она не обременяла своих родственников, дольше двух-трёх дней никогда не задерживалась, а может, и потому, что всегда привозила с собой полные сумки гостинцев – разного рода варенья и соленья, которые всем приходились по вкусу. При встрече они с братом вспоминали разные истории из детства, забавлявшие и слушателей, и самих рассказчиков.
Вот и в этот раз, почувствовав хандру под влиянием непрестанных сентябрьских дождей, Антонина созвонилась с братом и стала собираться в Москву. Она уже успела соскучиться по Андрею: в последний раз они виделись больше года назад, да и то совсем недолго. Поэтому собиралась она с радостью и лёгким сердцем.
Андрей встретил её на вокзале – и вот они уже снова у него дома. Надо сказать, что раньше, в молодости, жили они в другом месте, в центре Москвы, недалеко от Парка культуры, но потом, после отъезда Антонины, их старый дом снесли, и родители с Андреем переехали в Черёмушки. Эти Черёмушки не очень-то нравились Антонине: по-прежнему казались ей окраиной, как когда-то в детстве, хотя теперь, она знала, это был престижный район.
Сели ужинать. Окна кухни выходили во двор, где были видны детская площадка, торговые палатки, рядом – горка из жёлтых дынь, обнесённая металлической сеткой.
Сидели, разговаривали, обсуждали последние новости.
Жена Андрея, Оля, круглолицая и светловолосая, по характеру была под стать своему мужу – тихой и спокойной, по крайней мере такой её знала Антонина. С мужем они жили дружно, что не мешало им в разговоре иногда подкалывать друг друга, но происходило это не по злобе, а скорее по привычке, и никто не обижался. Дочке Насте шёл тринадцатый год, но выглядела она взрослее, и Антонина при встрече даже не сразу узнала её.
Сейчас Настя всё время крутилась за столом, то и дело задавая неожиданные вопросы, вовсе не относящиеся к общей беседе, или бралась рассказывать какие-то случаи из школьной жизни. Наверное, ей очень хотелось быть в центре внимания и удивить чем-нибудь приехавшую из глубинки тетю.
– Да замолчи ты наконец, егоза! – прикрикнул на неё Андрей, но не слишком строго. – Поговорить спокойно не даёшь!
Настя обиделась, надула губы и замолчала, уставившись в окно. Но через минуту её лицо оживилось, и она воскликнула:
– Смотрите, чурке ещё дынь привезли! Опять будет в своей клетке ночевать, чтоб не растащили!
Она громко рассмеялась.
Антонине стало не по себе.
– Не надо говорить «чурка», – сказала она Насте. – Это нехорошо.
– Подумаешь, у нас их все так называют, – ответила Настя, подбадриваемая молчанием родителей.
– Глаза бы мои их не видели, – тихо произнесла Оля, убирая со стола посуду. – Развелось, как тараканов.
Антонина изумилась: она не знала Олю такой. Да и молчание Андрея её удивило.
Разговор продолжился – о работе, о детях, о знакомых, но в голове у Антонины так и засел этот «чурка». Ночью она долго не могла уснуть, представляя, как этот несчастный продавец спит в своей клетке на холоде, не смея бросить своё хозяйство. Хоть дни пока ещё стояли сухие и тёплые, по вечерам уже явно чувствовалось свежее дыхание осени, становилось неуютно, зябко.
На следующий день она вышла прогуляться и, проходя по двору, подошла к площадке, где продавались дыни. Гора за сеткой была приличной, а покупателей – не слишком много. На табуретке, греясь на солнышке, сидел пожилой смуглый мужчина в телогрейке и вязаной шапочке. Вид у него был уставший и безразличный. Антонина, походив, выбрала небольшую дыню и подошла расплатиться. Продавец окинул её взглядом, посмотрел на дыню, потом – снова на неё и сказал:
– Лучше вот эту возьми, – и, подхватив, покачал на руке тугой жёлтый шар.
– А почему эту? – удивилась Антонина.
– Видишь, хвостик сухой – созрела уже. Бери, не пожалеешь! – продавец расплылся в улыбке.
– А откуда товар? – поинтересовалась Антонина.
– С Узбекистана, из-под Ферганы везём, – ответил мужчина, запахивая поплотнее телогрейку на груди. – Продать бы поскорее да домой, к семье! Но много ещё! – он с грустью обвёл взглядом высящуюся рядом гору.
Узбек не обманул: выбранная им дыня оказалась спелой и сладкой – прямо как мёд! Управились с ней благополучно всей семьёй в тот же вечер.
На следующий день Антонина отправилась к Парку культуры – пройтись по местам своего детства. Хоть и нет больше их дома, но улица же осталась!
Но и улицу свою она нашла с трудом – только после того, как несколько раз обошла кругами одно и то же место: ничего не могла узнать! Никаких примет, зацепок – будто был перед ней совсем другой район, не тот, где они раньше жили! Да и как будто весь город стал другим: воздух, атмосфера, ритм – всё было неузнаваемо… А память верно хранила картины детства – как они гуляли во дворе с ребятами, ходили в кино, ездили с родителями на трамвае в гости. Всё это сопровождалось в то время яркими впечатлениями, сердечными порывами, заставляло думать, переживать, фантазировать… А сейчас она словно оказалась в безвоздушном пространстве. Реклама, торговые центры, вереницы машин, равнодушные лица горожан, совсем не похожих на москвичей её молодости. Куда же всё подевалось?
Вечером, войдя в метро, она сразу оказалась стиснута толпой. По эскалаторам двигались группы разгорячённых молодцев; судя по их экипировке и громким, раскатистым возгласам, это были футбольные фанаты, возвращавшиеся с матча. Многие из них, похоже, были навеселе. «Спар-так – чем-пи-он!», «Росси-я – впе-рёд!» – звучали со всех сторон истошные вопли. Антонина решила ретироваться, но было поздно: сзади напирала толпа, быстро увеличиваясь в размерах. «Ладно, доберусь как-нибудь», – подумала она, стараясь не смотреть по сторонам. Наконец оказалась она на платформе и вошла в подошедший поезд. Когда двери уже закрывались, в вагон ввалилась ликующая толпа, заполонив всё пространство вокруг. Сразу стало душно и тесно.
Один из вошедших подтолкнул её, обдав пивным перегаром. Она едва устояла на ногах, схватившись за поручень.
– Вы что, совсем не в себе? – возмутилась Антонина.
– Ещё поговори тут! – здоровая, красная физиономия с мутными глазами почти вплотную приблизилась к ней, источая пивные пары и тупую неприязнь.
Едва открылись двери, Антонина выскочила из вагона и заспешила к переходу, задыхаясь от негодования.
– Ну и досталось мне сегодня! – рассказывала она дома. – Оказалась, представьте себе, в гуще футбольных фанатов!
– Так сегодня ж наши с турками играли! – вспомнил сосед Гена, зашедший к Андрею.
– И занесло же тебя туда, – покачал головой Андрей. – От этой публики, Тонь, надо держаться подальше!
– «Публики!» – передразнила его Антонина. – Да это просто варвары, потерявшие человеческий облик!
И словно в доказательство её слов, со двора послышались пьяные вопли: «Спар-так – чем-пи-он!» и нецензурная брань, сопровождаемая звоном разбитой бутылки.
Андрей закрыл форточку и задвинул шторы. Неприятная разнузданность осталась вовне, но настроение было подпорчено.
– Вот вы тут мигрантов ругаете, – сказала Антонина, помолчав. – А выдвори этих мигрантов – что, лучше, что ли, жить станем? Они хоть к старшим уважение имеют, а тут вообще невесть что.
– Не в мигрантах дело, – отозвался Гена. – Люди злыми стали, как собаки. Раньше, дед говорил, как было: выпил там, накуролесил – пошёл в церковь, исповедался, причастился и с чистой душой продолжаешь жить как человек. А теперь весь негатив копится, копится внутри, а потом – бах! взрыв! И дети у нас поэтому психопатами растут.
– Да, правда, – поддержала его Антонина. – Раньше все мирно жили, спокойно. Помнишь, Андрюш, у нас во дворе таджик был, Ахмет, смешной такой? Заходил к нам иногда…
– А у нас киргизы в группе учились, – вспомнил Андрей, разливая чай, – тоже хорошие ребята были, кишмишем нас угощали.
– Но всё же лучше бы они у себя дома сидели, – решительно вставила Оля. – Потому что когда он тут один, то это приятный экзотичный гость. А когда их тут тысячи, то это уже, простите, нашествие.
– А почему всё-таки люди злые? – задумчиво повторил Андрей.
– Потому что любви мало, – вдруг выдала Настя, сидевшая до того необычайно тихо, прислушиваясь к разговору взрослых.
– Устами младенца глаголет истина, – улыбнулся Андрей, и все рассмеялись. Но Оля тут же сдвинула брови и обратила на Настю строгий взгляд:
– А тебя что, родители разве не любят?
– Ну меня, допустим, любят, – согласилась Настя, облизывая пальцы, измазанные в шоколаде. – А многих в классе – нет. Только вид делают.
– Правда, мало любви, – согласилась Антонина с племянницей. – Многие сегодня готовы до крови драться «за правду», а вот чтоб самим подобрее быть…
– Прежде как-то и на работе веселее было, – припомнил мечтательно Андрей. – Шутили, спорили, философствовали… А теперь всё – окрики, команды. В начальстве редко профессионала встретишь. А ведь это тоже – в копилку зла…
Ночью Антонина плохо спала. То и дело виделась ей наплывающая на неё красная физиономия с мутными глазами и слышались злобные выкрики. Утром – рано ещё было – Антонина вышла на кухню и увидела там Настю, стоящую у окна. Услышав шаги, Настя обернулась и подняла на неё глаза, полные слёз.
– Настюша, что случилось? – испугалась Антонина.
– Чуркину клетку ночью раздолбали, – ответила Настя дрожащим голосом, и рот её скривился.
Антонина подошла к окну. Каркас металлической сетки был опрокинут, рядом виднелись остатки разбитых дынь. Неподалеку валялась табуретка. Хозяина не было видно.
Антонина прижала к себе племянницу и замерла, потрясённая увиденным.
Поезд шёл медленно, неторопливо, отстукивая колёсами унылый дорожный мотив. Антонина сидела в купе у окна, вздыхала и думала: «Куда подевалась страна её молодости, её город, люди? Почему раньше все жили мирно и дружно, почему сейчас этого нет?» Она вовсе не идеализировала советское прошлое, она его даже во многом не одобряла, но было там что-то важное, что утратилось, выплеснулось вместе с водой перестроечных реформ. Но что же это было такое важное, что делало людей людьми? А потом ей вспомнились слова Насти, и она поняла: при той простой бесхитростной жизни в людях жила любовь! «Совсем не трудно снова начать жить по-божески, – думала она. – Надо только захотеть, всем захотеть – и нашим правителям, и нам самим… Главное – самим».
А за окном всё тянулись бескрайние просторы – пустоши, овраги, перелески, подёрнутые серым осенним туманом. Из него временами выплывали тихие деревушки со старыми избами, покосившимися заборами. А рядом всё бежали куда-то и не кончались разбитые пыльные дороги.
«Воскресение твое, христе спасе…»
Пасхальная ночь. Необычная свежесть разлита в воздухе, в тёмном небе плывут лёгкие облака. Накануне, в Страстную пятницу, весь день лил дождь, словно природа оплакивала распятие Христа, а сегодня день распогодился, даже солнце ненадолго выглянуло. Я намеревался прийти в церковь к началу полунощницы, но припозднился: долго собирался, да и больная нога моя не позволяет мне теперь ходить так резво, как прежде. Вхожу в небольшой, празднично убранный храм. Пропели уже «Волною морскою…», канон Великой субботы близится к завершению. Звучат утешительные слова распятого Господа к Матери Своей: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… восстану бо и прославлюся…». Уносят Плащаницу в алтарь. Скоро, совсем уже скоро прозвучит благая весть! Покупаю свечу и встаю неподалеку от выхода, чтобы сразу влиться в крестный ход. И вот из алтаря под колокольный звон выдвигается торжественное шествие во главе с настоятелем – с Крестом, хоругвями и иконами. Народ с зажжёнными свечами теснится, торопясь просочиться сквозь узкие двери вслед за хором, растягивается потом длинной вереницей, шествуя вокруг храма. Иду, опираясь на палку, стараясь не отставать – хорошо слышать рядом стройное пение хора: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебя славити». Подпеваю негромко, прикрывая свечу ладонью, чтобы случайный порыв ветра не загасил её. Маленький огонёк, предвестник вечного Света. Как легко дышится! Будто весь мир обновился, очистился в этот вечер, готовясь к великой встрече. Тёмное небо высоко и величественно распростёрлось над землёй, и кажется, будто звучит с высоты ангельское пение. Вот уже обогнули мы храм наполовину. Народ идёт тесной колонной, подталкивая друг друга. Не поскользнуться бы на мокрой гальке… И снова, не в первый раз уже, припоминается мне другой крестный ход – в далёкое время, в далёкой стране…
Я работал тогда в министерстве, и как-то весной, в апреле, направили меня в командировку в одну азиатскую страну. Вышло это как раз под Пасху. Я был тогда человеком невоцерковленным, про религиозные праздники знал мало, в церковь заходил редко, но так как в той далекой стране храм находился рядом с нашим посольством, то я и решил заглянуть туда на пасхальную службу. Пришёл уже ближе к полуночи и был изумлён числом собравшихся там людей: храм был переполнен, казалось, яблоку негде упасть. Само наше посольство было немногочисленным, поэтому большая часть людей (а были это в основном наши соотечественники) прибыла сюда, видимо, ради праздника с разных концов города, а может, и со всей страны. Коммерсанты, челночники, студенты, преподаватели, женщины, вышедшие замуж за местных граждан и теперь живущие здесь, – все они в обычной жизни вряд ли часто вспоминали про церковь, но в эту ночь собрались здесь, охваченные единым порывом, и стояли с радостными, возбуждёнными лицами. И вот после завершения полунощницы я вместе с остальными вышел на улицу, влившись в крестный ход. Процессия двигалась стройно, медленно.
Крестный ход шёл не только вокруг церкви, но захватывал ещё и стоящую поодаль на невысоком холме часовенку – и потому растянулся на довольно большое расстояние. Я оказался где-то посредине этой процессии и, когда, дойдя до часовни, оглянулся назад, был очарован увиденным. Во мраке душной южной ночи двигалась цепочка из ярких огоньков свечей под колокольный звон и мелодичное пение, и казалось, что это ангелы сошли с небес и славят Воскресение Господне. Меня охватило необычное волнение, и может быть, впервые не разумом, а душой приблизился я к этому великому празднику. С наполнившей меня радостью я тоже запел повторявшееся снова и снова: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебя славити». Пока я так шёл, всё слышал у себя за спиной молодой женский голос. Негромкий и проникновенный, он звучал как тихий серебряный ручеек: «Воскресение Твое, Христе Спасе…» – и наши голоса будто сливались, звучали в унисон, совпадая в каждой интонации, образуя единый поток, восходящий к небу. Возможно, и она это чувствовала. Как это было дивно! Не раз хотелось мне оглянуться, чтобы взглянуть на обладательницу столь чудесного голоса, но несколько причин не позволяли мне этого сделать. Во-первых, я боялся разочарования: вдруг вместо красивой нежной девушки увижу обычную женщину. Нет, пусть уж лучше пасхальная тайна останется тайной! Да и глазеть по сторонам в такие святые минуты казалось неуместным. К тому же, что уж тут скрывать, я и сам немного робел – какое я произведу впечатление? Итак, я решил, что, когда закончится крестный ход, тогда и посмотрю на неё. И вот мы подошли к закрытым дверям церкви. Священник осенил их крестообразно кадилом, и зазвучало громко, торжественно: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!», «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь».

