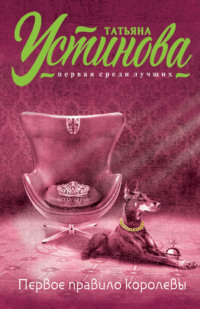
Первое правило королевы
– Все нормально. – Инна уселась за стол и обхватила руками кружку. Чай почти совсем остыл, а вылить в раковину кусок Енисея Инне было жалко.
– Так откуда романы Достоевского, троица и всякое такое? Что она придумывает?
– Не знаю, – задумчиво ответила Инна, – не знаю, Глеб. Похоже, что Любовь Ивановна что-то такое знала или подозревала…
– Что?
– Из-за чего застрелился ее муж.
– Да теперь хрен кто узнает! – вдруг ожесточенно выговорил Глеб и даже ладонью по столу хлопнул тихонько, как будто точку поставил – на самом деле никто не узнает.
– Почему?
– Потому что все в обстановке строгой секретности. Даже нас близко не пустили никого!.. На месте происшествия никто не был, а теперь говорят…
– Вас – это кого? – перебила Инна.
– Нас – это ФСБ, Инна Васильевна, – объяснил он с некоторой язвительностью в голосе. – Кто там чего расследовал, какие кто улики собрал, кто вывод сделал, что он сам в себя стрельнул, – ничего не понятно. Вызвали генерала на совещание и все ему там объяснили. Ну, генерал, стало быть, понял и нам тоже объяснил, а там… кто знает.
– А кто именно вас не пустил?
– Как кто? Первый заместитель, Якушев Сергей Ильич.
– Якушев вас не пустил потому, что ему скандалы в крае не ко времени, – нетерпеливо сказала Инна. – Кроме того, с Мухиным он сто лет дружил. Вряд ли бы он согласился, чтобы сейчас вы начали ковыряться в его шкафах, бумагах, письмах! Найдете какие-нибудь незаконные сделки, деньги или что там еще… Такого добра у каждого губернатора навалом.
Глеб быстро взглянул на нее, как полоснул ножом, и спрятал нож обратно в ножны.
– Я, Инна Васильевна, вас хорошо знаю, и знаю, что нашу работу вы уважаете, потому и не обижаюсь.
– Да. Ты не обижайся, Глеб. Ты лучше мне помоги.
– Да все, что хотите, Инна Васильевна!
– Попробуй узнать, кто такая эта Маша Мурзина, которая утопилась. Может, у вас в архивах есть что-то. Может, не о ней самой, а о ее семье.
Глеб удивился так, что у него даже брови зашевелились.
– А… зачем вам семья Маши Мурзиной?
Инна холодно на него посмотрела.
– Затем, что губернаторская вдова вспомнила о ней в день похорон своего мужа. Странно, что вообще вспомнила, Катя сказала, что прошло… сколько?..
– Двадцать лет.
– Двадцать лет. Ты помнишь, что было двадцать лет назад?
Глеб развеселился и пожал плечами. Норвежские узоры толстого свитера шевельнулись и пошли складками.
– В Девятом управлении служил. Анатолий Васильевич тогда еще первым секретарем не был. Его вроде в восемьдесят четвертом назначили, да?
– Не назначили, – поправила Инна, – это называлось – выбрали на заседании пленума.
– Помню, как за молоком ездил, – вдруг радостно сказал Глеб. – В Белоярске его не было, так я на мотоцикле в деревню ездил, верст за сорок. Сорок да сорок – восемьдесят. Туда ехал с ветерком. А обратно… с бидоном.
Они помолчали, вспоминая каждый свое – кто бидон с молоком, кто драку с соседскими мальчишками из-за собаки, которую они обижали, а Инна с ходу ввязалась в бой. До сих пор в безупречных – своих, а не американских! – зубах остался крохотный изъян. Зуб, почти выбитый прямым ударом, был будто чуть-чуть повернут. Правда, дралась она раньше, чем двадцать лет назад.
– Вряд ли, конечно, что-то есть, – задумчиво проговорила Инна. – Хоть бы узнать, из-за чего она утопилась.
– Если она есть в картотеке, узнаем, – пообещал Глеб.
– И про этого мужа. Геннадий Зосимов, если я не ошибаюсь. Только он питерский, а не местный.
Глеб улыбнулся и поболтал в кружке остатки кофе.
– Да ладно, Инна Васильевна. Какое это значение имеет – питерский или хоть… южнокорейский. Картотека на всех одна.
Инна посмотрела на него и тоже улыбнулась.
– Ты кто теперь, Глебушка? – неожиданно спросила она.
– Майор.
– Это хорошо?
Он опять пожал плечами в норвежском узоре.
– Нормально пока. А там поглядим.
Они помолчали.
– Вы меня простите, Инна Васильевна, что я ее к вам…
– Да ладно тебе, Глеб! Что ты опять затянул!.. Все уже сделано.
– Вы ее… – он посмотрел на Инну словно оценивающе, – вы ее не прогоняйте, хорошо? Куда она пойдет, когда ей еще мать хоронить! Да еще за ней правда кто-то шел, я сам видел, а у меня галлюцинаций не бывает.
Инна рассердилась:
– Глеб, я не собираюсь никого прогонять. Ты не хлопочи понапрасну, тоже мне, мать Тереза!.. Ты лучше найди нам хоть что-нибудь, похожее на факты.
Он поднялся, и ей пришлось закинуть голову так, что затылок уперся в стену.
– Тогда я поеду, пожалуй. Вы… дверь за мной заприте.
Инна заперла за ним дверь, погасила свет на крыльце и некоторое время смотрела на снег, казавшийся голубым под огромной, холодной, страшной сибирской луной.
Где-то далеко в тайге за Енисеем под этой же самой луной худой и жилистый волк прячет нос в замерзшие лапы.
Где-то близко под этой же самой луной человек, убивший губернатора и его жену, обдумывает следующий ход. Инна точно знала – он думает именно об этом и именно сейчас.
Он уже знает, что будет дальше, и теперь ему нужно лишь не ошибиться в деталях. Главное уже сделано, осталось совсем чуть-чуть. Инна Селиверстова, попавшаяся на пути, не в счет. Он уверен, что избавится от нее так же быстро и легко, как от губернаторской вдовы.
Инна натянула на щеки воротник свитера. Щеки были горячими, руки холодными, а шерсть колкой.
Ее противник отвернул пробку квадратной бутылки и плеснул себе немного виски. Он любил, чтобы все было красиво и по правилам. Виски и сигара были достаточно красивы и вполне в соответствии с правилами.
Он знал о ней все, потому что подобрался к ней очень близко, и был уверен, что убрать ее ничего не стоит. Старый пень Мухин все-таки умудрился испортить идеальную схему – в самом конце, когда уже почти все было готово, вмешалась старуха, его вдова, а потом Селиверстова, которой кажется, что она очень умна.
Баба не может быть умной. Она может быть хитрой, изворотливой, лживой – но не умной, уж он-то точно это знает! Он отправит ее на тот свет, а потом все сделается так, как нужно ему, а не какой-то там бабе, барыне, интриганке, уверенной, что она лучше всех!
Она проглотила наживку, и острый металлический крючок скользнул внутрь и зацепился за ее внутренности, проткнул их насквозь – не сорвется. Осталось только подсечь, вытащить и ударить обледенелым камнем по глупой рыбьей голове. И все. Все!
Инна Селиверстова возле своего окна, над которым висела одна на всех луна, улыбнулась.
Он все рассчитал, это верно. Она все время чувствует этот чужой расчет, чужие правила и то, как ловко он заставляет ее по этим правилам играть. Хуже всего, что он так и не может догадаться, чьи они, эти правила!..
Он не учел одного. Она – серьезный противник, а не напуганная и почти помешанная губернаторская дочь. Что бы там ни было дальше, ему не удастся использовать ее так, как он придумал и запланировал. Пока игра шла только в одни ворота – в его, – и он уверен, что положение на поле не изменится. Хорошо, что он в этом уверен.
Пока он уверен, что умнее, у нее есть время. Как только он поймет, что она на самом деле опасна, он попытается немедленно ее уничтожить, и действительно неизвестно, удастся ли ей спастись.
Пока он наслаждается своей властью над ней, у нее есть несколько дней.
Инна сжала и медленно разжала кулак.
Значит, так.
Горничная Наташа, о которой никто в хозяйственном управлении ничего не знает. Темная машина. Бумаги, которые вдова должна была передать именно ей, Инне. Черная дыра в виске. Газеты с чернильными губернаторскими закорючками, сплетенными в ее фамилию. Газеты эти настолько важны, что пропали из ее дома. Остался только листочек, а на нем фамилии журналистов, и самые часто встречающиеся инициалы – «ЗГ».
«ЗГ» – загадка.
Преступление, наказание, самоубийца Маша Мурзина, утопившаяся в Енисее двадцать лет назад. Бог троицу любит, плата за грехи, Катя, которая рыдала так, что казалось, у нее вот-вот разорвется сердце.
Что за всем этим стоит?
Кто за всем этим стоит?
Ястребов? Якушев? Или кто-то, не имеющий никакого отношения к политике? Или… или…
Она отошла от окна, подумала и задернула шторы, чего не делала никогда в жизни – дом стоял так обособленно, что подсматривать за ней было некому, и вряд ли в «Соснах» нашелся бы желающий подсматривать за соседями. Луна осталась по ту сторону темной и плотной ткани.
Инна с сомнением посмотрела на дверь – у мнимой горничной были ключи, значит, надежды на то, что замок остановит врагов, нет никакой.
Она никогда и ничего не боялась – даже когда боялась.
Она никогда не разрешала себе говорить: «Я не могу». Она даже думать так себе не разрешала.
Я все смогу, и да поможет мне Пресвятая Богородица!..
Поэтому она решительно придвинула к двери журнальный столик, а потом, пятясь, подтащила низкую обувную стойку. Стойку она пристроила к столику так, что от малейшего движения она бы с грохотом завалилась набок. Если кто-то посмеет явиться к ней без приглашения, она хотя бы это услышит!
Потом заглянула к Кате – та спала, дыхания почти не было слышно. Зато Джина подняла голову.
«Я здесь, на одеяле, и я точно знаю, что ты и не подумаешь меня прогонять, потому что я поступаю хорошо, правда?»
Ох, дал маху академик Павлов, да еще какого!.. Что за условный рефлекс заставляет Джину греть ноги несчастной Кати – никогда в жизни она не лежала ни у кого в ногах, а теперь вот забралась да еще осталась в кабинете, чего терпеть не могла, – устраивалась на ночь всегда в кресле, рядом с батареей на втором этаже!
Как бы не проспать приход Аделаиды, у которой тоже условный рефлекс – она приходит всегда в восемь часов. До ее прихода надо успеть разобрать баррикады – если ночь пройдет спокойно.
«ЗГ» – это может быть кто угодно. Глеб Звоницкий, к примеру, хоть он никогда в жизни не писал статей в газеты.
Или Генка Зосимов, муж Кати, которому до смерти хочется поделить «по-честному» Катину квартиру. О нем никто вообще ничего не знает.
Хочется до смерти. До смерти.
Утром, еще до ее отъезда на работу, позвонил Якушев и напомнил, что праздник для народа – затея очень важная и чтоб Инна не тянула.
– Я не тяну, Сергей Ильич. Я занимаюсь этим вопросом.
– Тем более у нас, сама видишь, беда за бедой. Люба вот тоже…
– Подробностей никаких нет?
– Да какие там подробности! – с досадой сказал Якушев. – Нету Любы, ушла за Толей. Не пережила. Слыхала песню «Лебединая верность»?
Инна промолчала. Песню она слыхала, конечно.
Естественно, Якушев не может обсуждать с ней подробности, но он должен был дать ей понять: что бы там ни случилось, есть официальная версия, и все мы – и ты, и я – станем этой версии придерживаться, как бы она ни была смешна или неправдоподобна.
А он сказал – песня «Лебединая верность»!
– Так что ты поактивней, поактивней, Инна Васильевна!.. Да, и молодец, что так ловко Ястребова обвела. Вчера смотрел, смотрел. Понравилось.
Инна ждала, что сейчас он скажет хоть что-нибудь про «команду», про будущие большие дела, про то, что Иннин профессионализм пригодится на выборах, но опять Якушев ничего такого не сказал, только еще раз повторил, что она «молодец», и повесил трубку.
…Зачем звонил?
Странно, странно.
Аделаида на кухне напевала про дождливый день и оленя, который проскакал по городу. Баррикаду Инна благополучно разобрала до ее прихода, но обувную стойку все же поставила как-то не так, потому что Аделаида тотчас же заметила, что «у нас тут непорядок».
Так как по своему обыкновению она созывала кошек к завтраку ненавистным для них «кысь-кысь-кысь!», обе кошки, состроив независимые физиономии, сидели в холле по разные стороны кисельной розы. Кати не было слышно.
Инна решилась зайти к ней перед самым приездом Осипа.
Она не спала. Лежала, до шеи укрывшись одеялами, и смотрела в потолок.
– Доброе утро, – отчетливо проговорила она, не поворачивая головы. – Спасибо вам большое. Я, наверное, доставляю вам много хлопот.
Инна придвинула к дивану кресло, села на него и посмотрела на губернаторскую дочь. Лоб ее был очень белым, под глазами синева, на висках желтизна.
– Катя, послушайте меня. Вам пока лучше не выходить из дома. Побудьте здесь.
– Я не могу. Там мама. Надо все устраивать.
– Катя, там и без вас все устроят. Хотя бы до вечера побудьте здесь.
– Я не могу. Из-за мамы.
– Я все равно вас запру, – заявила Инна спокойно. – А на окнах решетки.
Катя повернула голову и посмотрела на нее.
Инне показалось, что безмятежного вчерашнего безумия в ее глазах больше нет, осталась лишь вся тоска, что только есть на белом свете. Как она там поместилась?..
– Митьку надо найти, – с трудом выговорила Катя. – Сказать про маму. Он не знает, наверно.
Инна была уверена, что, даже если Митю найдут и скажут, что его мать умерла, он ничего не поймет.
– Все-таки я, наверное, пойду, Инна Васильна.
– Никуда вы не пойдете, – жестко сказала Инна. – Или вы хотите к вечеру стать третьим в вашей семье трупом?
Она умела быть жесткой, непреклонной, несгибаемой – когда это требовалось. Она была в сто раз сильнее Кати Мухиной и была уверена, что сумеет Катю остановить.
– Так что до вечера вы точно останетесь здесь. Горничная сейчас уйдет, я попрошу ее, чтобы она долго не возилась. Завтрак вам мы оставим. Вечером приедет Глеб, и мы что-нибудь придумаем.
– Глеб – это тот, кто вчера меня нашел?
– Вы сами его нашли.
– Он правда был начальником папиной охраны?
Инна удивилась:
– Неужели вы не помните?
Катя улыбнулась:
– Почти… нет. Мне кажется, что если и помню, то только чуть-чуть. Но все равно мне нельзя оставаться здесь. Меня искать, наверное, будут. Мой… муж вчера прилетел.
– Я позвоню вашему мужу и скажу, что вы гостите у меня.
Катя отвела глаза и опять уставилась в потолок.
– Нет.
– Почему нет?
– Я не хочу, чтобы он сюда приходил.
Инна нетерпеливо вздохнула – Катин муж ее не слишком интересовал, и вообще ее всегда раздражало, когда женщина не могла за себя постоять.
– Я не стану сообщать ему пароли и явки.
– Что?
– Катя, вы пока отдыхайте, а там посмотрим.
Катя помолчала.
– Спасибо. – И Инна поняла, что своего добилась.
Кате не хотелось «на войну» – выходить из убежища, принимать сложные решения, брать на себя проблемы, решать их, тащить на хребте ответственность. Ей нужна была передышка, и Инна такую передышку предлагала. Ей нужно было как следует прочувствовать свое горе, чтобы принять его и смириться с ним – Иннин теплый и глухой кабинет был лучшим местом для этого.
Кроме того, Катя почти не помнила, что делала вчера, и ее это пугало. С тех пор как сознание стало отлетать от тела и Катя как будто видела себя со стороны и немного сверху, она ни разу не задумалась, что именно происходило, когда сознание существовало отдельно? Где она была, что делала, что видела?..
А теперь вот задумалась.
Ночью она пришла в себя на незнакомом диване, в незнакомой темной комнате и перепугалась, и вскочила, и хотела бежать, уверенная, что наконец-то все поняли, что она сумасшедшая, и отправили ее в сумасшедший дом, но тут завозился теплый шерстяной ком у нее в ногах и остроухая небольшая кошка, подняв голову, строго посмотрела ей в глаза.
Катя была уверена, что именно эта кошка вернула ей рассудок – хотя в этой мысли было гораздо больше безумия, чем во всех предыдущих.
Кошка смотрела не мигая – словно в самую середину мозга. И как пыль со старого зеркала, неясные и расплывчатые образы стали пропадать, меняться, и Катя все вспомнила – маму, обледенелые доски, собачий лай, огромного человека в капюшоне и теплой куртке, машину, похожую на сарай, Инну Селиверстову.
Кошка не отводила глаз, пока картинка не сложилась вся, целиком, и Генка в ней оказался, и фиолетовая Илона с зелеными ягодицами, и питерская квартира с видом на Дворцовый мост, и пьяненький Митька, и закрытый гроб, в котором хоронили отца, – все беды и несчастья ее, Катиного, сегодняшнего существования.
И еще она вспомнила, как решила убить Генку, и вспомнила свой бред о том, что видела, как убивали маму.
Кошка все не отводила глаз – и не дала сознанию трусливо уползти из тела.
Нет. Это только твое, тебе и нести.
Ты можешь спрятаться, конечно, за свое отлетающее сознание, но твое время еще не пришло. Ты остаешься здесь и должна жить в соответствии со здешними законами, как бы они ни были жестоки, – так Катя поняла остроухую кошку.
Потом та отпустила губернаторскую дочь, очевидно решив, что пока достаточно, – моргнула, повела головой, смачно зевнула и перевалилась на другой бок.
Катя взялась рукой за лоб.
Лоб был горячий. Она потрогала свои щеки и волосы – будто чужие, – воротник свитера, шею. И еще немного подумала про мужика в капюшоне и про Инну Селиверстову, которая оставила ее в своем доме, – не вызвала санитаров, не позвонила Якушеву или Генке.
А потом Инна пришла.
Катя посмотрела на нее. Очень красивая, очень взрослая, очень уверенная в себе. С такой не пропадешь. Она не бросит ее в беде, не оставит одну, что-нибудь придумает.
Господи, какое замечательное выражение – что-нибудь придумает! Это значит, что выход всегда есть, и эта беловолосая женщина знает, как его найти, даже если Кате кажется, что его не найти никогда!
– Я напишу на бумажке мой мобильный номер, – сказала Инна негромко, – и вы сможете мне позвонить. И мы договорились, да? Вы побудете здесь до моего возвращения.
– Да, – согласилась Катя.
– Ну и отлично.
Она поднялась, всколыхнув вокруг себя запах неброских утренних духов, и вышла, не оглянувшись.
Верный Осип был уже на посту – в окно Инна увидела машину. Ей не хотелось, чтобы он вошел и обнаружил Катю, поэтому она сунула ноги в туфли – некогда было возиться с сапогами, велела Аделаиде «закругляться» и выскочила на крыльцо.
Осип как раз всходил на крылечко.
– Доброе утро, Инна Васильевна.
– Доброе утро, Осип Савельич.
– Как сама?
– А сам как?
Осип хмыкнул и поддержал ее под локоть.
– Сам лучше всех.
– Ну, и я так же.
Он распахнул перед ней заднюю дверь.
– В администрацию?
– Нет, Осип Савельич. Давай для начала в редакцию.
– В какую?..
– Давай в «Белоярские вести».
– А чего? – спросил любопытный Осип. – Вчера вроде не собиралась?
– Вчера не собиралась, а сегодня собралась.
– Нагоняй будешь давать?
Инна промолчала.
– Губернаторская дочь куда-то подевалась, – сообщил Осип. – Я сегодня утром машину мыл с Володькой, водителем Сергея Ильича Якушева. Так он говорит, вчера пропала с самого утра, и нет ее. А она не в себе.
– Что значит «не в себе»? – уточнила Инна, глядя в окно.
– Значит, умом девка тронулась от горя. Володька сказал, что они там считают, что она мать и… того.
– Чего?..
– Ну… того. Ты, Инна Васильевна, когда мы на Ленина были, не видала ее там? Дочку-то?
– Нет.
– А Володька говорит, Сергей Ильич за одну ночь аж поседел. Разговаривать не может.
– Он мне звонил утром, – отчеканила Инна, – и разговаривал вполне… успешно.
Осип посмотрел на нее в зеркало заднего вида и ничего не сказал.
Телефон зазвонил в кармане шубы, и Инна вытащила нагревшуюся трубку.
Звонил Юра. Он был озабочен изменениями в Иннином графике и слегка пенял ей, что не поставила его в известность.
Инна покаялась – по привычке все и всегда делать самой, она часто забывала о помощнике.
– Инна Васильевна, данные по газетам я собрал, как вы просили. Звонили из Приангарска, там какой-то фестиваль, спрашивали, будете вы или нет. Еще звонили из…
– А я должна?
– Что?
– Быть в Приангарске на фестивале?
Юра застеснялся и заюлил – наверное, наобещал чего-то, в известность ее не поставил и теперь хочет навести ее на решение, которое выгодно ему.
– Инна Васильевна, вообще-то мы посещаем такие мероприятия, и, как правило…
– Бросьте, Юра, – перебила Инна, – когда это мы посещали фестивали? Еще совещания какие-нибудь – я понимаю, а фестивали!..
– Инна Васильна, это хорошее мероприятие. Кстати, деньги на него дали хозяин лесопильного завода и председатель совета директоров тракторного.
Инна вздохнула:
– Вы хотите, чтобы я у них попросила и для нас?
– Ну, если это возможно… Кроме того, это вообще хороший повод, чтобы повстречаться с местным бизнесом.
На этих словах Инне все стало ясно.
Он наобещал кому-то ее присутствие – скорее всего, знакомство с ней понадобилось приангарским начальникам для того, чтобы заручиться ее поддержкой «в смысле прессы». Если Инна правильно все помнила, на весну там были назначены выборы. Кандидатам в местные приангарские цари, так же как и кандидатам в цари белоярские, непременно понадобятся журналисты, а они стоят дорого, особенно если покупать их в розницу, а не оптом.
Начальники решили оптом купить их у Инны – все-таки она была своя, с ней казалось проще договориться.
– Юра, – сказала она весело, – ничего у вас не выйдет. В Приангарск я сейчас не поеду. Если вы там кому-то что-то пообещали, позвоните и передоговоритесь на другое время, когда будет поспокойнее.
Юра молчал, и в молчании его было все на свете – насмешливое раскаяние, уважение к начальнице, что она так быстро и так правильно все поняла – не проведешь на мякине, даже если мякина «высшего сорта«! – и некоторая снисходительность, означавшая, что рано или поздно помощник все-таки заставит начальницу плясать под свою дудку!
Инна улыбнулась в свою телефонную трубку. Юра улыбнулся в свою.
– Когда вас ждать?
– Думаю, часа через полтора.
Главный редактор «Белоярских вестей» был чрезвычайно говорлив. Инна уповала на то, что в такой ранний час его не будет на месте и она быстро получит необходимые ей сведения.
«ЗГ» – вот кто интересовал ее больше всего.
Хотелось бы знать, имеют эти таинственные инициалы хоть какое-то отношение к тайне губернаторской смерти или она все придумала неправильно.
Осип плавненько причалил к «Белоярским вестям» и осведомился, ждать или провожать. Инна велела ждать.
По холодной лестнице со стенами, выкрашенными до половины зеленой масляной краской, она поднялась на второй этаж и потянула на себя скрипучую дверь. Застарелый табачный дух, смешанный с дешевыми духами и запахом кофе, витал в низком коридоре. Инна знала, что от этого духа в скором времени у нее непременно заболит голова – тяжко, на весь день.
Ей нужна была предпоследняя дверь справа, там, где сидели главный редактор и его заместитель. Костяшкой согнутого пальца Инна постучала и, не дождавшись ответа, распахнула дверь.
– Инна Васильевна! – прогремели за правым столом. – Столько лет, столько зим!.. Подожди, – это было сказано в трубку, – да подожди ты, кому говорю!
Главный редактор газеты «Белоярские вести», на отсутствие которого Инна так надеялась, выбрался из-за стола, примерился, будто собираясь ее обнять, но потом передумал и обеими руками потряс ее ладошку.
– Рад, рад. Очень рад.
После чего вернулся к столу, схватил трубку, уронил, опять схватил, зацепился длиннейшим витым шнуром за аппарат, скинул его на кресло – аппарат упал с горестным всхлипом, – неимоверными усилиями втащил его обратно на стол, водрузил, уронил стакан со сломанными карандашами и прилепленным сбоку комком серой жвачки, но поднимать не стал. Шут с ними, с карандашами, все равно не пишут!
Потом он стал во все стороны махать руками, придерживая трубку плечом, что означало: садитесь, пожалуйста, многоуважаемая Инна Васильевна.
Инна с сомнением посмотрела на ряд разномастных стульев, стоящих вдоль стены под плакатиком. На плакатике были изображены две кривые, красная и синяя. Инна все хотела посмотреть, что они означают, и все время забывала.
Главный редактор кинул трубку на рычаги, словно она ему смертельно надоела, и уставился на Инну.
Посмотрев малость, он вдруг вскричал:
– Матушка! Как хорошо, что заглянули!
И опять замолчал.
Инна была уверена, что Сидор Семенович Платошко так и родился главным редактором – в мятом коричневом костюме, засыпанном пеплом, в нечищеных ботинках, на правом шнурок всегда развязан, в синем полосатом галстуке, который сейчас висел, зацепившись петлей за стул. В особо ответственных случаях Сидор Семенович энергично просовывал в петлю голову и затягивал ее на шее, как будто хотел удавиться. Он непрерывно курил и непрерывно писал, и казалось, что, если отнять у него ручку или сигарету, Сидор Семенович впадет в кому – как при ампутации без наркоза.
– Что же не предупредила, матушка?! Мы бы хоть… подготовились, спецвыпуск… на прошлой неделе три статьи были, так мы бы те номерочки… для вас специально, а сейчас… нет никого. Я попробую, конечно…

