
Бог, которого не было. Черная книга
Дотанцевав, Майя показала мне на мою же книгу про муми-троллей, которую я когда-то спас, и они с Ильей прочитали по ролям:
– «Я сейчас заплачу! – сказала фрекен Снорк. – Я так боюсь конца света».
– Не волнуйся, он наступит только в пятницу, – попытался утешить ее Илья. В смысле Муми-тролль. – Мы успеем вдоволь потанцевать до этого.
– У нас конец света? – спросил я.
– У нас концерт! – заявил Илья.
– У нас?!
– Ну да, – ответил Илья с невозмутимостью Чарльза Бронсона. – Майя будет петь и играть на гитаре, ты – на клавишах, я буду на звуке.
Крупный план глаз Майи – Кардинале. Крупный план глаз Ильи – Бронсона. Не шутят.
– Не волнуйся, концерт в пятницу, – попыталась успокоить меня Майя.
Я не очень-то успокаивался, и Илья пошел за водкой.
Да, это было в Иерусалиме, еще не было семи утра, и был шабат, но Илья из тех людей, что абсолютно в любом месте знают место, где можно купить водку. В любое время. Кстати, о времени: на часах 21:13. Успеем вдоволь потанцевать.
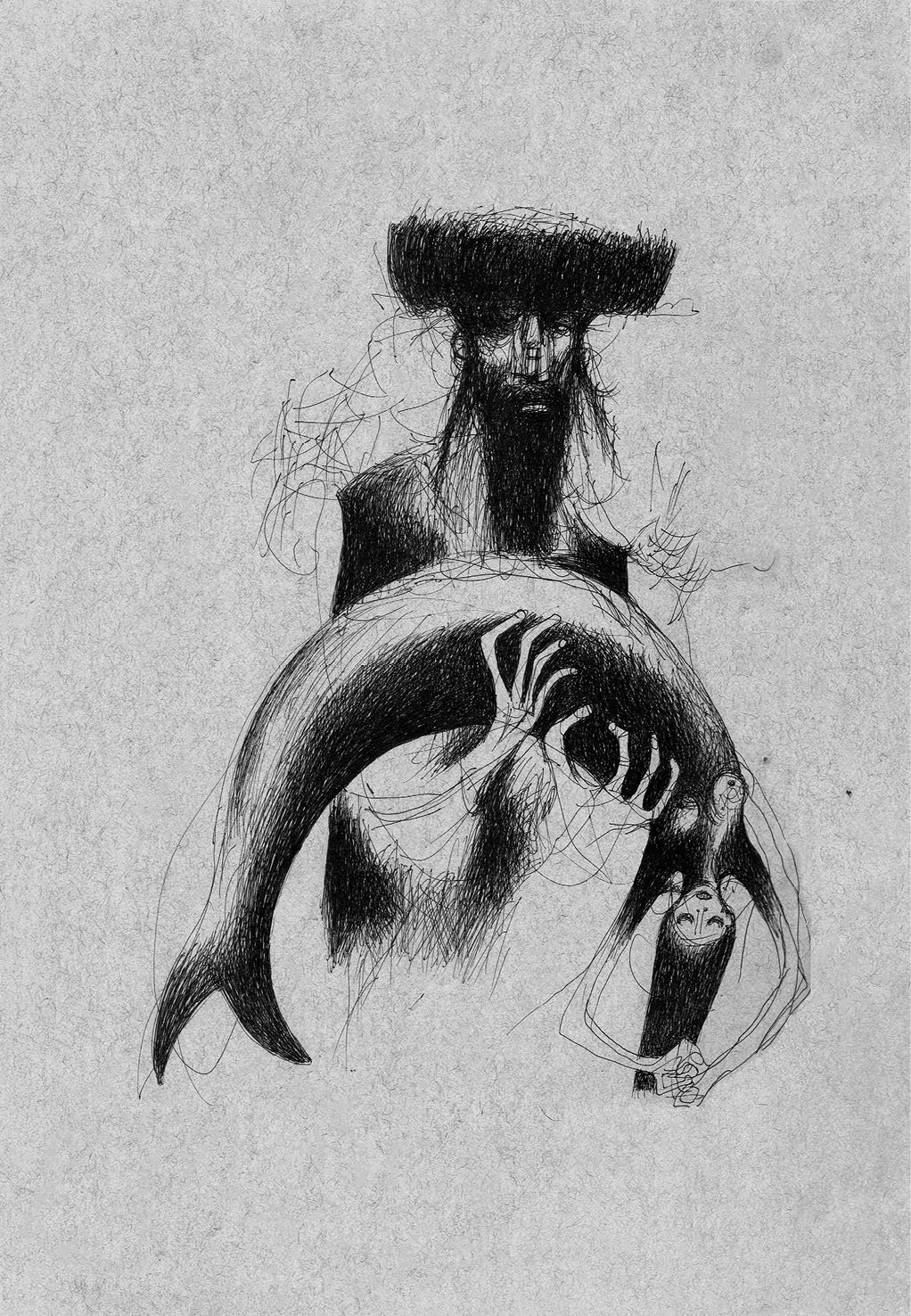
Что тебя не устраивает? Смерть
– Хочешь узнать, как мы познакомились? – спросила Майя через алеф, когда ушел Илья.
Я хотел спать, я ненавижу, когда меня будят, я вообще ненавижу утро, и это было настолько явно написано на моем лице – на русском и на иврите, через алеф и через айн, что она, прочитав все это, возразила ему, моему лицу, на котором все это было написано – на русском и на иврите, через алеф и через айн:
– А я люблю утро! Я его больше всего люблю. Особенно когда Рутгер Хауэр укрывает меня и шепчет: «Поспи еще, любимая!» А я такая кусок радуги отламываю и грызу.
– Хауэр?! – спросил совершенно охреневший кактус. Он тоже не любил, когда его будят.
– Да, Рутгер Хауэр – мой любимый актер, – невозмутимо ответила Майя через алеф. – Так вот, мы познакомились вчера в Эйлате. Я там в полиции работала.
– Блядь, – выругался кактус. Он, как и все нормальные люди, не любил полицию.
– Это водная полиция, точнее, морская, – возразила Майя. – Мы плаваем в море и следим за тем, чтобы люди не нервировали рыбу. Кстати, штраф – семьсот тридцать шекелей.
– Блядь, – сказали мы с кактусом.
– Но я Илюше никаких штрафов не выписывала, – успокоила нас Майя через алеф. – Мы с ним трахнулись, потом решили создать рок-группу и сразу приехали к тебе. А, нет, сначала мы еще раз трахнулись. Кстати, можно душ принять, а то я с дороги?
Мы с кактусом не успели ничего ответить, а она уже скрылась в ванной.
Я подошел к окну. За окном шел дождь, дождь будущего, как в великом фильме «Бегущий по лезвию»; в фильме, где играл великий Рутгер Хауэр, любимый актер Майи через алеф; под дождем, как рыбы, которых нельзя третировать – штраф семьсот тридцать шекелей, – плавали люди, где-то там в поисках водки плавал Илья, которого Майя через алеф не стала штрафовать, а трахнулась с ним, и они решили создать рок-группу.
Я прижался к стеклу.
– Я буду задавать вам вопросы, а вы расслабьтесь и отвечайте на них как можно проще. Тест на способность сопереживать. Расширение капилляров при так называемой реакции стыда. Расфокусировка зрачка, непроизвольное расширение роговицы.
– Готовы?
– Да.
– Дорот Ришоним, пять?
– Моя квартира. Съемная.
– Хорошая квартира?
– Вполне. Это уже тест?
– Просто разминка. Вы в квартире…
– Это тест?
– Да. Вы в квартире, и вы один…
– Почему?
– Может, все осточертело и захотелось побыть одному. Или вам двадцать лет и вы уснули после своего дня рождения…
– Тогда это не Дорот Ришоним, пять. Это квартира моей бабушки на Соколе…
– Не имеет значения. Это абстракция. Так вот, вы видите тестуда сулькату.
– Тесту… Кто это?
– Черепаха. Она держит на спине дюжину слонов, слоны держат мир, и вдруг вы почувствовали дрожь и скрежет. Дрожь странная, болезненная, словно дрожит мир, но не так, как при землетрясении, а от озноба. Скрежет похож на голос Тома Уэйтса, замерзающего в глухой степи. А потом звучит Моцарт. Соната № 11, часть третья, Rondo alla turca.
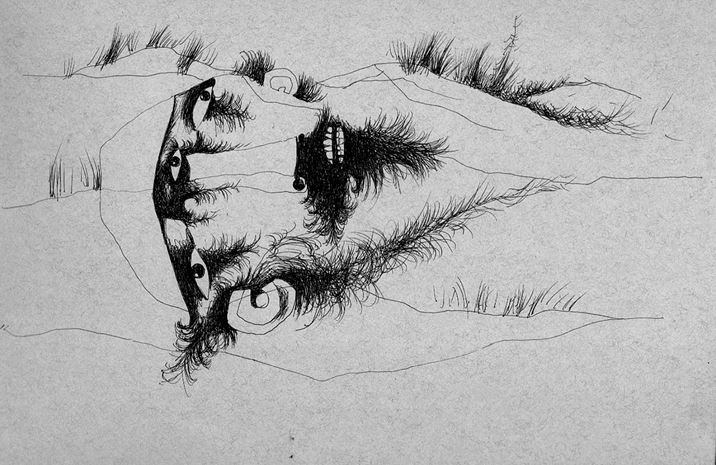
Моцарт звучит и прямо сейчас. Это Илья, он спрашивает, есть ли у меня кола. Я молчу. Это не тот Моцарт, что мне нужен. Я жду Дашиного Моцарта. Илья все понимает, дает отбой, покупает колу и выходит под дождь. Майя через алеф стоит под дождем душа. Рыб нельзя нервировать. Штраф семьсот тридцать шекелей. Хочется стать рыбой. Илья купил водки и плывет под дождем. Шабат. Семь двадцать утра. Загорается рекламный стенд: в загробном мире вас ожидает новая жизнь. Не упустите свой шанс.
– Время еще есть, – усмехается любимый актер Майи через алеф. Он успел встретиться с тем, кто его сотворил.
– Чем могу помочь? – спросил Создатель.
– Исправить свои ошибки, – ответил созданный.
– Что тебя не устраивает? – удивился Создатель.
– Смерть, – ответил Рутгер Хауэр.
Через два часа и пятьдесят минут я скажу тебе то же самое. Ну если ты, конечно, есть.
Ощущение какой-то недосказанности
Илья пришел в 7:45, победно позвякивая бутылками в рюкзаке. Майя через алеф все еще была в душе.
– Если что-то сейчас и придает моей жизни осмысленность, то только Майя. И водка еще, конечно, – сказал Илья, разливая по первой. Было 7:47 утра. Шабат. И мы выпили по первой.
– А почему она через алеф? – спросил я, кивая на шумящий душ с Майей внутри.
Вместо ответа Илья налил, и мы выпили по второй. Было 7:52. Шабат.
– Вы в Эйлате познакомились?
– Ага, прямо в море. Ночью. Представляешь, я в море, она в море, а вокруг все светится. Майя объяснила, что это моллюски такие, они, когда ебутся, – светятся. В общем, мы тоже стали… ну это… светиться. Так и познакомились.
Ровно 8 утра. Пьем по третьей – за знакомство.
8:14. Шабат.
Илья:
– Давай еще по одной, а то ощущение какой-то недосказанности.
Пьем.
8:20. Выходит из душа Майя. В домашнем халатике. Майя – через алеф, а по ее халатику бегают бегемотики. Майя через алеф в халатике с бегемотиками смотрит на мокрого Илью и говорит:
– А вы знаете, что душ – это одомашненный дождь?
Мы не отвечаем. Пьем. Втроем.
8:30. Майя говорит, что у меня фен умер. Он мне от Ави, хозяина квартиры, достался. Пожилой уже был.
8:32. Пьем за фен. Не чокаясь.
8:40. Илья достает новую бутылку из морозильника. Пьем.
8:50. Молчавший все это время кактус рассказывает, что глава хасидов из Пшишке ребе Бунем утверждал: поскольку заглавные буквы двух словосочетаний, обозначающих «водку» и «страх Божий», совпадают, то водка – одна из тех добрых вещей, чье потребление ничем не может быть ограничено. Не ограничиваем себя. Пьем. И кактус тоже не ограничиваем. Наливаем ему. Пьем. Вчетвером.
9:14. Выясняем у кактуса, что ребе Бунем умер в 1827 году. Жаль. Умный мужик был. Но, как говорил врач скорой помощи Костя Парфенов: все мы когда-нибудь умрем. И фен, и ребе Бунем. Пьем не чокаясь.
10:07. Илья достает еще одну бутылку из морозильника. Если хорошая водка заиндевела – то она не льется, а тянется, и вот этот вот звук – это звук пианино Билли Эванса. И эта водка пьется так же, как и слушается Эванс: его не надо закусывать, выдыхать, морщиться – все эти стандартные процедуры не нужны. Эванса надо просто пить. И аккуратно ставить пустую рюмку на стол, чтобы не спугнуть волшебство.
А соло на контрабасе Гомеса – это перекур. Но такой перекур – вприглядку. Когда ты достаешь сигарету, но не закуриваешь, а просто постукиваешь ею по столу в ожидании, когда нальют новую рюмку и снова зазвучит Билли Эванс.
12:09. Майя, уже прилично набиллиэвансившись, объявляет, что в следующую пятницу мы играем на фестивале русскоязычного рока. Мне срочно надо выпить. Пьем.
12:15. Майя продолжает: русскоязычного рока в Израиле нет, а вот фестиваль русскоязычного рока есть. На Кинерете. Ну а сразу после нашего выступления и рок появится. Илья – он-то не только под Билли Эвансом, но и под Майей через алеф – согласно кивает и достает новую бутылку. Пьем.
12:40. Майя через алеф говорит, что репетировать не надо, мы будем импровизировать. «А тексты?» – спрашиваю я. «Не бери в голову, стихи – они сами себя напишут», – говорит Майя. Не берем в голову. Пьем. Импровизируем.
13:10. Пьем. Сначала за рок вообще, потом за русскоязычный рок в частности.
13:58. Хотим выпить «за нас» – ну то есть за нашу группу – и понимаем, что группа есть, а названия нет. Пьем. Озадаченно.
14:03. Кактус предлагает хуй. В качестве названия. Во-первых, это красиво, говорит он, а во-вторых, три буквы и вас трое. Думаем. Пьем.
14:40. Майя говорит, что сделает нам майки с буквами, мы встанем в ряд, и будет клево. «Будет охуенно», – язвит кактус. Пьем.
15:20. Тянем жребий – кому какая буква достанется. У меня – «у», Майе достается «й». Илье, соответственно, «х». Пьем.
Дальше я немного умер, а когда проснулся, было 19:07. Илья и Майя через алеф светились. Вовсю. И я снова закрыл глаза.
Проснулся я от запаха марихуаны. Сосед. Значит, уже 6:30. И надо идти на твою почту. Х и Й спали. У выковырял себя из-под одеяла и пошел на работу.
Это был один из лучших шабатов в моей жизни. Сегодня – вечер пятницы. Шабат. Последний в моей жизни. От шабата до шабата много чего случилось.
Как говорил любимый актер Майи через алеф: все эти мгновения исчезнут во времени, как слезы под дождём. Пора умирать.
Все мы когда-то умрем. И фен, и ребе Бунем. Так говорил врач скорой помощи Костя Парфенов. Мое «когда-то» случится через два часа и сорок девять минут. Ощущение какой-то недосказанности. Так говорил Илья.

Боль. Ее слишком много
За все хорошее в жизни приходится хотеть спать. И я хотел. Очень. Я сидел в оторванных страницах календаря. В куче букв и ненаписанных письмах. Письма были везде. Сначала они доходили до щиколоток, потом до пояса, затем они укрыли меня целиком. Как снег. Мольбы, требования, проклятия, исповеди, просьбы – с каждой секундой их становилось все больше и больше. Белая бумага. Черные буквы. Беды. Надежды. Страх. Молитвы. Буквы сливались в строчки, строчки корчились от боли, боль питала страх, страх рождал молитвы, молитвы вселяли надежду и рождали новые беды, новые буквы, новую боль. Прах ты и в прах возвратишься. Уроборос. Кольцевая линия, не занимайте левую сторону эскалатора. Осторожно, двери закрываются. Станцию «Телецентр» уже построили, но это ничего не меняет. Теплый снег продолжает падать. Это не снег, это – письма, но это тоже ничего не меняет. Следующая остановка «Страх». Страх ты и в страх возвратишься. Уроборос. Змея, кусающая свой хвост. Теплый снег продолжает падать. Подул сильный ветер; буквы, некудоты, литеры, знаки препинания, знаки отличия и знаки отчаяния тучей черных снежинок срываются с бумаги, черная боль роем саранчи поднимается в небо Иерусалима, накрывая город, весь мир; облепляет слонов, ослепляет черепаху. Земля на слоновьих плечах дрожит, сотрясаются небеса, меркнут солнце и луна, черепаха закрывает глаза, гаснет свет звезд. И не одежды, а сердца свои разрывайте – кажется, это ты нам говоришь; и мы разрываем, и сердца и одежды, а оттуда сыплются новые буквы, новые беды, черные буквы, черные беды, черный снег. Уроборос.
А потом чей-то голос внутри меня произнес: я устал от боли, которую слышу и чувствую. Я устал от ненависти людей друг к другу. Она похожа на осколки стекла в мозгу. Я устал от того, что столько раз хотел помочь и не мог. Я устал от темноты. Но больше всего от боли. Ее слишком много.
А потом я услышал крик. Странный, гортанный крик, похожий на плач и смех одновременно. Нескончаемый крик. Закольцованный. Уроборос.
– Что с тобой?
Черный рой спрятался куда-то внутрь меня, и я проснулся. Кажется, это я кричал.
Передо мной стоял сын Мордехая, начальника почты. У него их штук восемь, и один стоял сейчас передо мной, похожий на уменьшенную копию Мордехая.
– Может, тебе кофе принести? – спросил Мордехай в масштабе один к десяти.
– Кофе?
– Ну да. Как Джон Коффи, только пишется по-другому. – Маленький Мордехай заговорщически улыбнулся.
– Нет, спасибо. Я в порядке. Ты только папе не говори, хорошо? – попросил я, стараясь перенаправить перегар поверх мальчика.
– Все, что происходит на миле, остается на миле. Это закон, – сказал Мордехай-сын и выразительно пошевелил носом. Прямо как Мордехай-папа.
Я выдохнул рой черных букв вместе с перегаром в окно и окончательно пришел в себя. Это был не сон. Мне написал Алекс. Мой первый.

Боль. Ее слишком много.

Богу все равно, есть он или нет
Следующее, что я помню, – это очередь. И холод. Холод и очередь. Бесконечная очередь. Беззвучная. Тысячи, сотни тысяч людей смотрят друг другу в затылок. Холод, пробравшись внутрь, убил всё – эмоции, желания, мысли.
Холод. Очередь. Затылок стоит за затылком и смотрит в затылок. Бесконечность затылков. Очередь.
Холод. Холод цепей. Скованные одной цепью. Связанные одной целью. Очередь.
Бесконечная очередь. Беззвучная. Тысячи, сотни тысяч людей смотрят друг другу в затылок и молчат. Круговая порука мажет, как копоть. Холод.
Очередь. Я ищу глаза. Затылок. Здесь первые на последних похожи. Холод.
Очередь. Я ищу небо. Вместо неба – натяжной потолок. Бесконечность затылков и натянутый над этой бесконечностью бесконечный натяжной потолок. Скованные одной цепью.
Холод. Очередь. Затылок. Натяжной потолок. Голос с неба, которого нет. Голос Бога, которого нет. Голос, равнодушный, как выстрел в затылок: Богу все равно, есть он или нет. Холод.
Очередь. Цифры на руке. Синие цифры. Холод.
Очередь. По статистике, в один день умирает 159 635 человек. Холод.
Очередь из 159 635 человек. Нет, больше. Не все дожидаются своей очереди. Но они все равно остаются в очереди. Скованные одной цепью. Связанные одной целью. Холод.
Очередь. Из затылков. Я – 1 052 994-й. Так написано на руке. Холод.
Очередь. Голос: Богу все равно, есть он или нет. Холод.
Очередь. Из затылков. На затылке передо мной выбриты цифры: 1 052 993. На моем – 1 052 994. На том, что за мной, – 1 052 995. И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Скованные одной цепью. Холод.
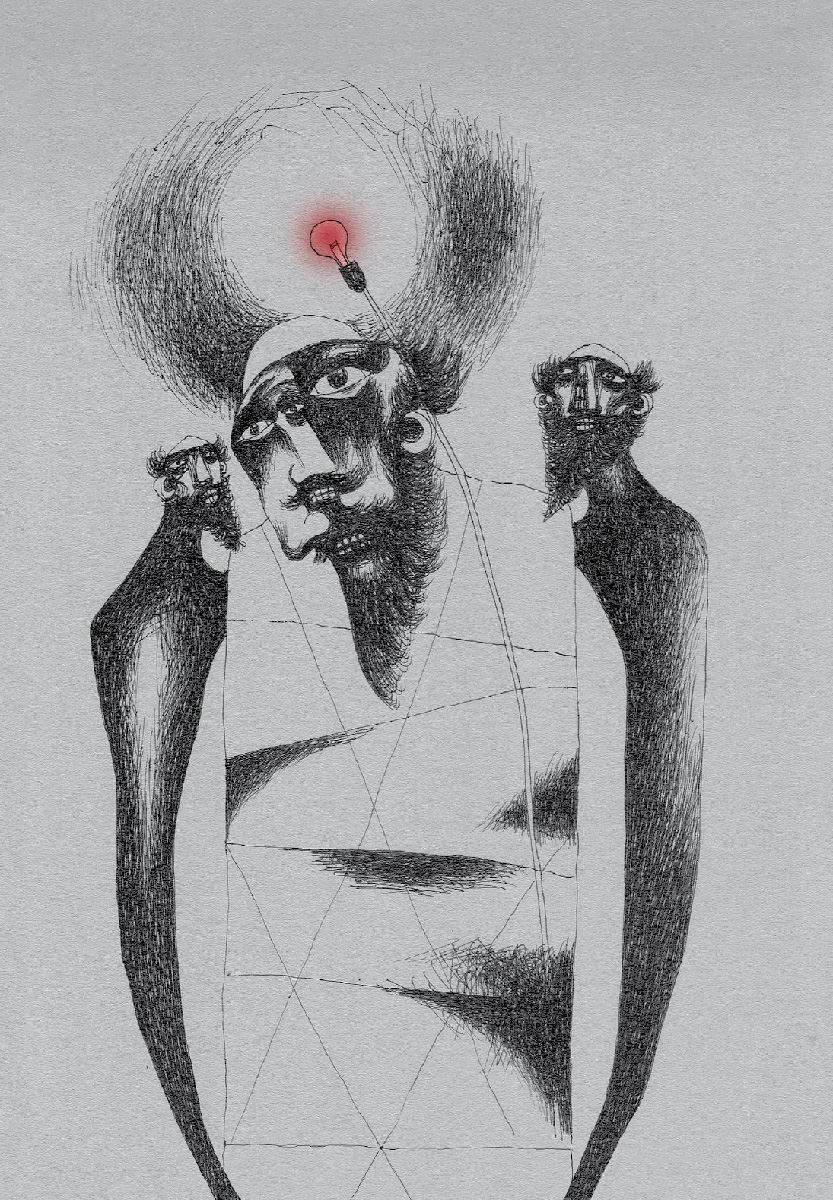
Очередь. Холод. Средняя продолжительность жизни – 2 475 576 000 секунд, мы говорим в среднем 123 295 750 слов, занимаемся сексом 4239 раз, выделяем 60 литров слез. Голос: Богу все равно, есть он или нет. Холод.
Очередь. Холод. Богу все равно. Богу все – равно. Здесь можно играть про себя на трубе, но как ни играй, все играешь отбой. Никто не выигрывает. Просто одни медленнее проигрывают. Холод.
Очередь. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. Твой зад, которому все равно. Ты – это Бог. Холод.
Очередь. День. Месяц. Год. За красным восходом – розовый закат. Холод.
Очередь. Голос: Богу все равно, есть он или нет. Контрольный в затылок: Богу все равно, есть он или нет. Можно верить и в отсутствие веры. Холод.
Очередь. Телефонная будка. Каждый из очереди входит туда и набирает номер. Номер, написанный неровными буквами у него на ладони. Номер, выбритый на затылке. 1 052 994 – мой номер.
Очередь. Моя очередь. Я набираю номер. 1 052 994. Голос. Я не могу запомнить, что мне говорит голос. Я цепляюсь за слова, цепляюсь за трубку, но меня вышвыривают из будки – очередь. Я кричу.
«Он пришел в себя», – слышу я голос. Открываю глаза. Надо мной натяжной потолок. Закрываю. Голос: «Вы слышите меня?» Голос: «Вы помните, кто вы?» Я – номер 1 052 994. Голос продолжает: «Вы в больнице». Голос говорит, что я вышел из здания почты на Агриппа, 42, и упал. А еще голос говорит, что сегодня я заново родился. А потом смотрит в свои записи и удивленно присвистывает. И я понимаю, почему он присвистывает. Первый раз я тоже родился сегодня. Седьмого мая. Просто, когда мы вчера пили с Ильей и Майей, мы забыли за это выпить. Ну потому что вчера и без этого было очень много поводов выпить: рыбы, которых нельзя травмировать, и моллюски, которые светятся; ощущение какой-то недостаточности и русский рок в Израиле, которого нет, но который обязательно будет, а еще фен и Билли Эванс, а потом мы набиллиэвансились так, что не заметили, как вчера кончилось и наступило сегодня и мой день рождения; а с утра сегодня, в мой день рождения, Майя и Илья спали, а я получил письмо от Алекса – моего первого; вернее, Алекс писал тебе, но ты же не читаешь письма, так что я прочитал его письмо, вышел из здания почты на Агриппа, 42, булгаковская Голгофа, проклятое место; вышел и упал, и чуть не умер, как фен или как ребе Бунем, но, слава богу, меня очень быстро доставили в больницу, и там я родился еще раз и снова – седьмое мая.
– Вы помните, сколько вам лет? – спрашивает меня голос.
Помню. Двадцать шесть.
– Все будет хорошо, – говорит голос.
Пытаюсь улыбнуться. Не получается.
Сейчас – в тридцать – тоже пытаюсь, и тоже не получается. Ну потому что знаю, что хорошо не будет. А еще я знаю, что будет играть, когда меня убьют. «Скованные одной цепью». НАУ. И это будет хорошо. Я про НАУ. И я улыбаюсь.
Ну а Богу все равно, есть он или нет.
Мы еще сразимся с тобой в плейстейшен
Голос говорит, что нужна капельница. И зовет другой голос. Второй голос спрашивает, какая у меня группа крови. «Группа крови на рукаве», – мурлыкает голос. Мой порядковый номер 1 052 994. Голос говорит, что тромб – это очень опасно, он проникает в кровь и может оторваться в любой момент. Второй голос добавляет: это как ходить по краю пропасти. Мы ходили по краю пропасти, по самому по краю, а над обрывом, раскинув руки, она проникла в мою кровь, а потом она оторвалась, я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой в комнате с белым потолком и старым фоно, но ты хотела приготовить самый лучший в мире торт, и я поставил Моцарта – Мособлсовнархоз РСФСР, потому что все свои остальные пласты я отдал Косте Парфенову, а станцию метро «Телецентр» тогда не построили, и пришлось переключить мир на 78 оборотов.
Голос говорит, что сейчас будет немного больно.
Игла. Вена. Боль. Кровь. Гроб. Молоток. Гвозди. Черви. Лопаты. Яма. Холмик. Камень. Ограда. Табличка с именем мама. Шоколад.
Горький. Три плитки. Яйца. Молоко. Сливки. Боль.
Все мы когда-то умрем слова черные шоколад горький тот кто хочет свою Дашу сберечь тот потеряет ее слова черные масло сливочное там где справедливость нет любви слова черные ликер сладкий если ты послал мне этот рак за то что я выиграл у тебя в плейстейшен то это западло слова черные сливки жирные осталось только молиться.
Молюсь: яйца молоко сливки черви лопата яма игла вена кровь табличка с именем мама шла Саша по шоссе холмик камень ограда шоколад черный слова черные боль черная мука черная молоко черное черви черные кровь черная.
Игла. Вена. Боль. Мне вкололи Бога прямо в вену. Боль. Черная. Ее слишком много. Если ты послал мне этот рак за то, что я выиграл у тебя в плейстейшен, – то это западло. Боль. Ее слишком много. Почему ты убиваешь? Ты – это Бог. Который любовь. И каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Слушай, а разлюбить ты нас не пробовал? Если ты любишь всех – то не любишь никого. За что? Из-за яблока? Ну западло же.
Боль. Игла. Вена. Боль. Мне вкололи Бога прямо в вену. Боль.
Сотни гитаристов под моей кожей нажимают ногой на дисторшн как будто душу сдернули с кожей тот кто хочет душу свою сберечь тысячи гитаристов берут на душе баррэ тот потеряет ее с паром в дыру ушла пресловутая ересь вздорная именуемая душа слова черные боль черная кровь черная.

Чернилами, черными как кровь, я отвечаю Алексу. От имени Бога, в которого я не верю. Руками, которые не слушаются меня, я пишу слова, в которые я тоже не верю. Буквы, в свою очередь, не верят мне и расплываются на бумаге, будто хотят сбежать. Бумага рвется подальше от этого постыдного всего и просто рвется. «Алекс, привет. Хорошо, что ты мне написал. Сам не знаю, как это получилось, но я все исправлю. Так что – не болей. Маме привет. Пусть не плачет. И да – мы еще сразимся с тобой в плейстейшен. Твой Бог». И росчерк. Руки Фредди Меркьюри дрожат, и росчерк тоже получается некрасивый, смазанный, как будто Фредди пьян или плачет.
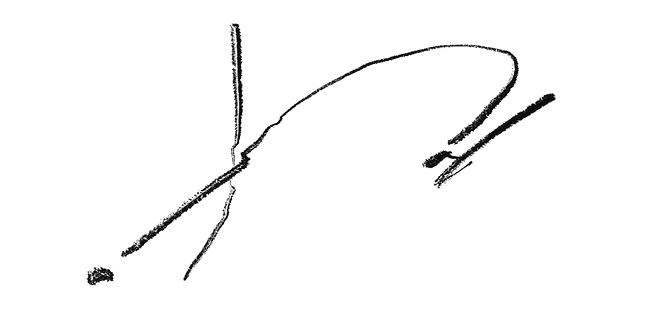
Рано или поздно каждому придется пройти свою зеленую милю
Вот такое письмо. Моему первому. Последнее письмо. Последнее письмо моему первому и последнее письмо Бога. Я, слава богу, не Бог, и у меня есть что-то святое. Немного – но есть. И я поклялся всем, что есть у меня святого, – гроб, молоток, гвозди, черви, лопаты, яма, табличка с именем мама; папа, бабушка; King Crimson; Даша, виски, джаз, односолодовый виски, – в общем, святого набралось немало. И я поклялся всем святым больше никогда не отвечать на письма Бога. А потом опять потерял сознание.
А когда очнулся – выдернул иголку с Богом из своей вены и пошел домой. Хотелось кофе и сдохнуть. Но кофе больше. Кофе – это как Джон Коффи, только пишется по-другому. Пол больничного коридора посредине был застелен линолеумом мерзко-зеленого цвета, и я старался идти по краю, не наступая на него. Тогда – получилось. Но рано или поздно каждому придется пройти свою зеленую милю.
Ну вот доисповедуюсь на айфон и пойду.
Когда я пришел домой, Илья и Майя через алеф светились. В такт их свечению на кухне открывалась и закрывалась форточка и звенели пластмассовые ложечки. Свечение их было еще и громким, поэтому кактус сидел в моих наушниках, слушая Леонарда Коэна. Это прям по лицу кактуса было видно, что слушал он именно Коэна, ну или что там у кактусов вместо лица.
У всего есть свой срок годности
– Где тебя носило? – спросил кактус. И это вместо поздравления с днем рождения – и с первым, и со вторым. Ну про второе он, допустим, не знал, но про первое – должен был помнить.
Илья и Майя тоже не поздравили – они пытались одеться; джинсы Ильи нашлись в холодильнике, и они ржали. Не джинсы ржали, естественно, а Илья с Майей. Через алеф. Хотя джинсы тоже ржали. Естественно. Я не стал никому напоминать про свой день рождения – ни кактусу, ни Илье, ни Майе. Я тоже ржал. Странно, что я мог ржать после всего этого, но я ржал. Это помогало забыть про Алекса. Хотя, конечно, не помогало. Должно было помогать. Но не помогало.
Потом Майя кормила меня наверняка вкусным обедом, а я запивал водку водкой. Выяснилось, что я пробыл в больнице три дня, и нам уже пора собираться на фестиваль. Майки с буквами Майя не сделала, потому что они волновались, куда пропал я, и поэтому нам надо придумать другое название группе.
– Теперь это так называется: волновались, – проворчал кактус, снимая наушники.
Илья ничего не сказал – он пытался натянуть на себя заиндевевшие джинсы из холодильника. Майя тоже ничего не стала отвечать кактусу – она с любопытством смотрела, как Илья пытается натянуть на себя замороженные Levis. Это было и вправду забавно.
– А еще, – продолжал кактус ябедничать, – она выкинула из холодильника все твои продукты.
– И положила туда мои джинсы. – Бедный Илья стоя запихивал себя в стоящие «левайсы».
– У всего этого, – Майя показала на полное мусорное ведро, – закончился срок годности.
– И у Канта тоже? – спросил я, увидев два килограмма доказательств твоего существования в мусорке.
– Ага, – совершенно серьезно ответила Майя через алеф. – У Канта – давно уже.
– Но вот эту страницу я спас. – Илюха гордо показал на холодильник, не прекращая битву с начинающими уже таять джинсами.
Магнитик «Эйлат», прихераченный на холодильник, прихерачивал туда же вырванную страничку из Канта. Поперек многобукв красным фломастером было написано: утконос – единственное доказательство существования Бога. Кактус, который знал и помнил все, разъяснил нам: в 1799 году английский натуралист Джордж Шоу открыл утконоса. До встречи с этой тварью Шоу был атеистом, как и положено английскому натуралисту. Но потом уверовал в Господа, потому что решил: эволюция не может сотворить такую нелепую зверушку, тут нужен Бог.
Человек – тоже зверушка. Нелепая зверушка. Странная.

