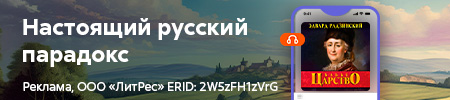0
0«Темная материя» социальных наук
Выстраиваемая психикой каждого конкретного человека часть окружающей антропоморфной реальности независима от него, совершенно реальна и столь же объективна для него, как и вещественный физический мир. Я назвал ее поэтому объективной психической реальностью (ОПР). Пребывая в сознании людей, ОПР, как и физический мир, определяет их поведение. Хотя сущности ОПР человек не может обнаружить в окружающем мире.
Такие, например, сущности, как норма, решение, болезнь, открытие, культура, одиночество, экология, воспитание, ресурс, обслуживание, риск и т. д. и т. п., нельзя непосредственно воспринять. Но физические референты, на основании которых наши предшественники их сформировали, вполне доступны восприятию.
Объективная психическая реальность представлена множеством физических, социальных, психических, фантастических и других сущностей мира, их свойств, связей, отношений и т. д., созданных человеческим сознанием с помощью вербальных концептов… Причем в реальности этих сущностей люди убеждены, несмотря на их очевидное отсутствие среди доступных восприятию объектов и явлений.
Нам остается поэтому только признать, что, несмотря на свое своеобразие, подобные сущности (от физических объектов и явлений, недоступных восприятию, до сложных научных и философских объектов) явно не просто вымысел человеческого сознания и они определяют нашу жизнь, хотя и пребывают лишь в нашей объективной психической реальности.
ОПР представляет собой особую громадную часть мира, в которой ее сущности действуют, изменяются, вступают в сложные связи и отношения. ОПР включает в себя разные сферы реальности – мир физический, мир социальный, мир психических сущностей и т. д., к рассмотрению которых имеет смысл перейти.
Раздел 2.1
Физическая область ОПР
Глава 2.1.1. Две грани предметов
Природный, физический, или вещественный, мир – это в первую очередь окружающий мир, доступный восприятию, данный нам в виде образов и ощущений, а потому наполненный для нас предметами, вещественными объектами и явлениями, их свойствами, действиями и т. д. Но он не исчерпывается только ими. Наш мир физической реальности включает в себя колоссальную область объективной психической реальности. Это не только в принципе недоступные восприятию физические сущности, но и множество важных аспектов предметного физического мира, доступного восприятию[68].
А. Шюц (Schiitz A., 1962, с. 48–66) пишет о солидарности мыслителей в том, что любое знание о мире включает ментальные конструкты, а понятие природы, как показал Э. Гуссерль[69], является идеализированной абстракцией.
Действительно, само слово «природа» обозначает сущность, конституированную сознанием с помощью вербальной конструкции вроде такой: природа – это совокупность естественных условий на Земле (поверхность, растительность, климат), органический и неорганический мир, все существующее на Земле, не созданное деятельностью человека[70].
Если сознание животных и новорожденного репрезентирует окружающий мир только сенсорно, то сознание взрослого человека репрезентирует даже самые простые предметы уже на двух уровнях – сенсорном и вербальном, или чувственном и символическом. В результате даже незатейливый предмет, такой, например, как ложка, не может быть воспринят человеком без своей смысловой составляющей, то есть без вербальных конструкций, раскрывающих разные его значения.
На чувственном уровне ребенок знакомится с ложкой в возрасте нескольких месяцев, учась удерживать ее в руке. В процессе взаимодействия с ней: ее хватания, засовывания в рот, облизывания и т. д. – сознание ребенка строит ее модель-репрезентацию. Однако в предмет, называемый ложкой, она превращается лишь после того, как он усвоит слово «ложка» и образ этого слова ассоциируется с ее моделью-репрезентацией.
Но на этом этапе конституирование данного предмета только начинается. Со временем ребенок приобретает разнообразное, в том числе вербальное, знание о ложках. Он узнает о разных функциях ложки: есть, накладывать, помешивать, снимать пену, бить по лбу, использовать для причащения и т. д. и т. п. Узнает о том, что ложки бывают разные (чайные, десертные, столовые и т. д.), что их делают из металла (стали, алюминия, серебра, золота и пр.), из дерева, стекла, кости и т. д. Что ложки люди начали изготавливать в глубокой древности. Разные ложки используются для разных блюд. И прочее и прочее.
По сути дела, вербальная репрезентация любого предмета в человеческом сознании не только не уступает по значимости и важности для человека чувственной его репрезентации, но и играет преобладающую роль в понимании им конкретной вещи. Многие искусственные предметы и объекты вообще могут быть поняты человеком лишь в результате усвоения им их чувственно-вербальных репрезентаций, раскрывающих скрытые смыслы предметов. Например, предметы для настольных игр, научные приборы, пульты управления машин и аппаратов, клавиатура компьютера, мобильный телефон и т. д.
У каждого доступного восприятию элемента окружающей физической реальности обязательно есть смысловой компонент, раскрывающий человеку его общественное значение и делающий предмет хотя бы в минимальной степени понятным ему.
Вербальные конструкции, репрезентирующие назначение предмета, интериоризируются ребенком из ОПР в процессе социализации. В результате в его сознании выстраивается сложнейшая система вербальных значений предмета, своего рода вербальная надстройка над чувственными репрезентациями. Такая же надстройка в форме вербальных конструкций присутствует в сознании всех членов общества, которые с помощью слов обмениваются ее фрагментами друг с другом в процессе коммуникации.
Нож, кастрюля, топор, любой другой предмет, с одной стороны, некая вещественная физическая сущность. С другой стороны, предмет является одновременно и сущностью ОПР, которая имеет большое количество значений и выполняет целый «букет» функций. Причем о множестве функций предмета, то есть о его психической стороне, можно узнать только из ОПР.
Что такое предмет без его смысловой части, обеспечиваемой ОПР?
Это и не предмет вовсе. По крайней мере, это не тот предмет, который пребывающие в ОПР люди видят в нем. Вспомним басню И. А. Крылова «Мартышка и очки». Очки для мартышки или ребенка, не имеющих представления об их назначении, и очки для взрослого человека – это разные предметы.
Целые области антропоморфного физического мира состоят как бы из двух уровней. Ф. де Соссюр (2006, с. 109–110) замечает, что для нас, например, тождественны два скорых поезда Женева – Париж, отправляющиеся в 20:00, но через 24 часа. На наш взгляд, и тот и другой – это один и тот же скорый поезд, хотя и паровоз, и вагоны, и поездная бригада – все в них разное.
Получается, что у нас в сознании есть физический объект – поезд, который едет из одного города в другой. И есть второй тоже вроде бы физический объект – поезд, который выходит каждый день по расписанию из одного города в другой. Однако этот второй все же не физический, а психический объект, который лишь отождествляется в нашем сознании с конкретным физическим объектом и помещается нами в окружающую физическую реальность.
Точно так же у нас есть президент страны – психический объект (относимый нами к реальности физического мира). И есть конкретный человек с конкретной фамилией, которого мы знаем в лицо, выполняющий функции президента и тоже относимый нами к физической реальности. На деле же первый объект пребывает в объективной психической реальности, тогда как второй – в физическом мире. Можно сказать и иначе: конкретный физический объект – человек превращается еще и в объект ОПР – президента и начинает действовать в двух реальностях.
Ф. де Соссюр (там же) спрашивает, почему после полной перестройки улицы она не перестает быть собой? И сам же отвечает, что ее сущность не чисто материальна. Она заключается в некоторых условиях, чуждых ее случайному материалу, например, в ее положении относительно других улиц. Автор (2006, с. 111) приводит и другой пример. Мы можем легко заменить в шахматах коня любым предметом, ничего общего с ним не имеющим, придав ему ту же значимость. Он спрашивает, с чем мы отождествляем в этом случае любой предмет? И отвечает, что явно не с фигурой, изображающей коня.
Действительно, любой другой предмет – пробка от шампанского, катушка из-под ниток, запонка, колпачок от авторучки и т. д., может быть произвольно связан нашим сознанием с моделью-репрезентацией шахматного коня, а потому легко может заменить собой данный объект среди прочих моделей-репрезентаций фигур, взаимодействующих в нашем сознании во время шахматной партии.
И. Гоффман (2003, с. 84–85) пишет, что шахматы содержат два принципиально различающихся основания. Одно принадлежит физическому миру, где происходит пространственное перемещение материальных фигурок. Другое относится к социальному миру противоборствующих в игре сторон.
С. Московичи (1998, с. 343–344) указывает, что вплоть до Возрождения общество видело в деньгах субстанцию, переходящую из рук в руки. Оно доверяло деньгам, поскольку счет шел в звонкой и весомой монете, лучше золотой. По мере распространения денежной экономики с ее коммерческими сетями и финансовыми правилами в Европе стоимость денег отделилась от их физической основы, начала фиксироваться на кусках бумаги и стала цифрой. Деньги начали оценивать по услугам, которые они оказывают, по ритму их обращения и накопления. Они приобрели безличный и абстрактный характер.
Продолжая мысль автора, можно сказать, что кусок золота трансформировался сначала минимально – в более удобный физический предмет – монету. Монета же «осуществила неадекватный кульбит», трансформируясь в бумажку – бумажную банкноту, а последняя вообще превратилась теперь в электронную цифровую запись.
Почему стало возможным это странное превращение?
Только потому, что деньгами являются не кружок металла, листок бумаги или совокупность цифр, а та вербально репрезентируемая сущность – универсальное средство обмена, которую в ОПР люди вкладывают в эти предметы. У большинства физических предметов, объектов и явлений, с которыми все мы имеем дело, есть две грани, две стороны. Одна внешняя, видимая – физическая. Другая внутренняя, скрытая – психическая, или, как часто и не совсем правомерно говорят исследователи, социальная.
Ж. Бодрийяр (2007, с. 12–13), обсуждая эту социальную сторону предметов, говорит о необходимости отменить гипотезу первичности потребительской стоимости предметов. Эта гипотеза приписывает предметам функциональный статус утвари, удовлетворяющей природные потребности людей. Автор же считает, что она неверна и истинной является теория социальной демонстрации и значения.
В качестве подтверждения своих мыслей он (2007, с. 13) приводит данные Б. Малиновского о том, что в примитивных обществах жителей Тробриандских островов существовало радикальное различие между экономической функцией и функцией-знаком в виде наличия двух классов предметов, участвующих в двух параллельных системах обмена, – кула (система символического обмена, основанная на кругообороте, обращающемся даре браслетов, колье, украшений, вокруг которой организуется социальная система значимости и статуса) и гимвали (торговля обычными предметами).
Ссылаясь на Т. Веблена (Veblen Th. The Theory of the Leisure Class. – 1899), Ж. Бодрийяр (2007, с. 15) пишет, что в патриархальном обществе женщину старались роскошно одеть не для того, чтобы она была красивой, а для того, чтобы своим великолепием она свидетельствовала о легитимности или социальном превосходстве своего хозяина.
Социальную сторону вещи обсуждает и Р. Харре (2006, с. 118–133), рассматривая ее в аспекте нарративов. Вещь оказывается «социальным объектом», включенным в то или иное повествование. Христианский нарратив превращает, например, алкоголь в вино для причастия… Предмет может существовать в качестве не одного, а нескольких социальных объектов, каждый из которых характеризуется особой ролью в повествовании. Соответственно, вещь лишается постоянного места в пространстве социальных смыслов, а вместе с ним и постоянного собственного значения. В качестве социального объекта она существует одновременно во множестве повествовательных миров. «Если кто-то захочет спросить: “Каково значение моста как социального объекта?” – пишет Р. Харре, – потребуется выяснить, перекинут ли мост через Сену или через реку Квай…» (2006, с. 129).
Сказанное лишь подтверждает, что все вещи имеют две стороны – вещественную и невещественную, или, как чаще говорят, социальную. Хотя правильнее было бы говорить о физической и психической сторонах любой вещи.
Искусственные физические объекты, например материальные произведения искусства, исходно переполнены смыслами, далеко выходящими за пределы кусков мрамора, дерева, полотна и красок. Искусствовед и переводчик А. Е. Майкапар (1996, с. 5) замечает, что существует множество картин, сюжеты и содержание которых четко определены, однако средний посетитель не понимает их содержания, даже если под ними имеется подпись. Например, «Фалерийский учитель», «Визит Тотилы», «“Клевета” Апеллеса», «Суд Камбиса». Воспринимающий не понимает назначения решетки, которую держит святой, даже прочитав, что это святой Лаврентий. Подобные примеры встречаются на каждом шагу, когда мы ходим по залам картинных галерей или рассматриваем репродукции картин старых мастеров.
Действительно, все предметы искусства наполнены смыслами, пребывающими в ОПР и далеко выходящими за пределы того, что неподготовленный зритель может непосредственно воспринять, взаимодействуя с ними.
А. Е. Майкапар (1996, с. 6) отмечает, что изучением содержания картин и их смыслов занимается даже специальная наука – иконология. К. Кларк (1996, с. 15) пишет о странном заблуждении критической мысли, внушавшей нам, что сюжет картины не важен и значение имеют лишь форма и цвет. Однако все художники придавали огромное значение сюжету, который использовали, и сочли бы невероятным широкое распространение столь абсурдной концепции.
То есть сюжет картины как элемент психической стороны этого предмета играет важнейшую роль в ее постижении людьми. Встречаются, однако, и более сложные и труднопостижимые отношения между физической и психической составляющими предмета.
В. Декомб (2000, с. 38–39) ссылается, в частности, на приведенный А. Кожевым (Kojeve A. Introduction a la lecture de Hegel. – Gallimard, 1947. – P. 485) в качестве примера предмет – золотое кольцо, который рассматривает затем и П. Сартр в своей книге «Бытие и ничто». В кольце есть отверстие, имеющее для кольца столь же сущностное значение, как и золото. Не будь золота, не было бы кольца. Но не будь отверстия, золото (которое тем не менее существовало бы) также не было бы кольцом. По словам В. Декомба (2000, с. 38–39), получается, что есть бытие (золото) и есть отсутствие бытия, то есть ничто (отверстие). Ничто включается в бытие, и появляется золотое кольцо.
Я разовью мысль автора. Порой предмет возникает из вещества лишь после того, как человек добавит в него что-то. Даже не что-то (отверстие, как пишет В. Декомб (2000, с. 39)), а ничто в материальном плане – пустоту. На самом деле человек добавляет в изделие форму – собственный ментальный зрительный образ границ (контуров) физического предмета. Она и рождает из аморфного вещества специфический, полезный человеку или даже художественный предмет. Со временем именно такой образ может превратиться в характерный для данного общества, типичный образец подобных предметов, часто воспроизводимый представителями данного общества и воспринимаемый ими как идеальный.
Социальную сторону вещей подробно рассматривает Г. Зиммель (2006; 2006а). Он (2006, с. 43–44) выделяет в вазе, например, два аспекта – осязаемый, имеющий вес, включенный в действия и связи окружающего мира кусок металла как часть действительности, и ее художественную форму, которая ведет совершенно отдельное существование, для которого материальная часть вазы является всего лишь носителем. Ваза одновременно находится в двух мирах. По его (2006а, с. 51) словам, некоторая современная мебель, будучи непосредственным выражением индивидуальной артистичности, кажется униженной, когда на нее садятся. Она прямо-таки требует рамы.
Неудивительно, так как здесь мы опять сталкиваемся с добавлением к физическому веществу психического образа вещи, что порождает новый искусственный предмет, порой в форме произведения искусства.
Многие исследователи отмечают, что даже наши образы восприятия предметов зависят от нашего исходного вербального знания о предметах и их формах. Более того, мы получаем от общества эталоны художественных форм в виде образов восприятия тех широко растиражированных обществом произведений искусства, которые оно считает образцами красоты, мужественности, женственности, моды, утонченности, изысканности и т. д.
Журналист и писатель У. Липпман (2004, с. 99), например, пишет, ссылаясь на историка искусства Б. Беренсона (Berenson В., 1897, с. 60), что если учесть бесконечное число очертаний, которые принимает объект, и отсутствие у нас внимания и чувствительности к деталям, то вещи вряд ли обладают формами и свойствами, настолько ясными и определенными для нас, что мы можем вызывать их в своей памяти, когда нам заблагорассудится. Потому в нашей памяти всплывают стереотипные образы, одолженные нам искусством. Мы имеем обыкновение «отливать» увиденное в формы одного-единственного знакомого нам искусства. У нас есть свой стандарт художественной реальности.
По мнению У. Липпмана (2004, с. 99–100), если кто-то из наших знакомых покажет нам формы и цвета, которые мы не сможем тут же привести в соответствие с собственным ограниченным набором форм, мы не примем их, сожалея о неспособности знакомого воспроизвести вещи такими, какие они есть на самом деле. Мы испытываем неудовольствие, когда видение предметов художником отличается от нашего видения, и испытываем сложности при оценке искусства, например, Средних веков, поскольку с тех пор способ видения художественных форм многократно изменился.
Автор (2004, с. 104) пишет, что нам рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы получаем представление о большинстве вещей до того, как непосредственно сталкиваемся с ними. И наши предубеждения управляют процессом нашего восприятия. По его (2004, с. 125) словам, способ нашего восприятия вещей – это сочетание того, чем они на самом деле являются, и того, что мы ожидаем увидеть… Астроном видит небо иначе, чем влюбленная парочка. Сочинения И. Канта (1724–1804) у кантианца вызывают мысли, отличные от тех, которые они вызывают у сторонника радикального эмпиризма… Таитянская красавица кажется более привлекательной своему таитянскому поклоннику, нежели читателю журнала National Geographic Magazine. Компетентность в любой области означает на самом деле увеличение числа аспектов, которые человек способен увидеть, а также привычку не принимать желаемое за действительное.
Автор, несомненно, прав. Наличие у нас вербальных репрезентаций физического объекта, предшествующих его восприятию, трансформирует последующее восприятие объекта.
Д. Майерс (2001, с. 445) сообщает, например, об экспериментальном выявлении влияния вербальной информации об объекте на его восприятие. В экспериментах Э. Ланджер и Л. Имбера (Ellen Langer & Lois Imber, 1980) студенты Гарварда просматривали видеозапись читающего человека. Когда об этом человеке им предварительно сообщалось нечто необычное (что он пациент онкологической клиники, гомосексуалист или миллионер), испытуемые обнаруживали у него особенности, которым наблюдатели, не получавшие дополнительной информации, не придавали значения… В результате оценки испытуемых выглядели преувеличенными… Те, кто думал, что человек болен раком, подмечали нечто необычное в его лице и движениях тела, делавшее его более «непохожим на большинство людей», чем он выглядел в глазах наблюдателей контрольной группы.
Н. Геген (2005, с. 60) пишет, что люди с высоким статусом оцениваются как более высокие и более красивые, чем люди с низким.
Каждый легко может вспомнить случаи из своей жизни, когда восприятие мира и окружающих предметов неожиданно менялось после получения вербальной информации о них. Например, профессионально и оригинально составленное меню в ресторане с необычными названиями блюд резко повышает интерес к ним и желание их попробовать. А слова о том, что именно в этом здании происходили исторические события и по его коридорам ходили великие люди, принимавшие судьбоносные для страны и мира решения, немедленно меняют наш взгляд на это здание.
М. К. Мамардашвили (2002, с. 282) замечает, что после создания художником нового произведения в мире появляется новый взгляд на физическую реальность, новые возможности для ее рассмотрения и понимания. После написания «Гамлета» в мире стали возможны и возникли вполне определенные переживания, мысли, чувства и представления. Они именно такие, а не другие. Странный парадокс: они таковы, потому что невидимое сцепление точно построено, определено, и поэтому возможны новые чувства, ощущения, переживания. Мы по-новому увидели мир. Ссылаясь на М. Пруста («В поисках утраченного времени»), он (там же) пишет, что после полотен Ренуара возник мир Ренуара, который нас окружал, но мы его не видели. Лишь после появления его полотен он стал возможным, и мы видим в мире женщин Ренуара.
Я бы все же сказал, что каждый творец новых моделей не столько открывает нам глаза на существующие в мире объекты, сколько создает для нас новые модели все той же реальности, новые способы ее восприятия, новые подходы к ее пониманию, которые с этого момента становятся всеобщим достоянием именно благодаря объективной психической реальности.
А. Шюц (Schiitz A., 1962, р. 48–66) отмечает, что мы воспринимаем культурные объекты с помощью человеческих действий, в которых они создаются. Инструмент, например, воспринимается не как вещь (чем он, конечно, тоже является), но с учетом цели, для которой он создан, и его назначения для других.
Могу лишь добавить, что это касается не только культурных объектов, но и практически всех объектов, которые человек создает и с которыми он имеет дело. ОПР удивительным образом дополняет даже воспринимаемую нами природную физическую реальность.
Социолог В. Вахштайн (2006, с. 8–9) отмечает, что для последователей П. Бурдье (1930–2002) всякая материальная вещь есть социальный конструкт, порождение социальных отношений. Так же и из аксиомы Э. Дюркгейма (1858–1917) «объяснять социальное социальным» напрямую следует требование «редукции материального», его замещения социальным и объяснения социальным же – социальными функциями, повседневными практиками, общественными отношениями, взаимодействиями и коммуникациями. Поэтому социологу так легко дается представление вещи в образе «ансамбля социальных отношений», «результата объективации», «фетиша» или «оснащения повседневных практик».
Социолог Дж. Ло (2006, с. 226–227) именно в таком свете рассматривает физические объекты, описывая их в качестве производных некоторых устойчивых множеств или сетей отношений, сохраняющих свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и неизменны. Например, корабль может быть представлен в виде сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, пушек, складов продовольствия, кают и самой команды. И разрыв этой сети отношений кладет конец дискретной объектности.
Интересно то, что психическая сторона вещи не остается постоянно неизменной, а меняется со временем. Иллюстрацию факта ее трансформации с течением времени приводит антрополог И. Копытофф (2006, с. 137), описывая «биографию хижины» в заирском племени суку. Она начинается с того, что хижина служит домом для пары или – в случае полигамной семьи – для жены с детьми. Через несколько лет хижина последовательно становится гостевым домом или жилищем для вдовы, местом встреч подростков, кухней и, наконец, курятником или хлевом для коз, а потом разваливается, подточенная термитами. Физическое состояние хижины на каждом этапе соответствует ее функции. Хижина, используемая не так, как диктует ее состояние, вводит людей суку в смущение и говорит им о многом. Так, если гостя селят в хижине, которой положено быть кухней, это кое-что говорит о статусе гостя, а если на участке нет хижины для гостей, это говорит о том, что хозяин участка ленив, негостеприимен или беден.
У некоторых предметов и физических сущностей их психическая сторона начинает настолько преобладать над физической, что они превращаются в символы иных сущностей. Наиболее типичным и известным примером такой инверсии смысла физической сущности являются слова языка. Человек слышит сложное чередование звуков или видит графический объект. Но слуховой и зрительный образы слова репрезентируют ему совершенно иной физический объект, а то и вовсе сущность, не имеющую чувственных репрезентаций.