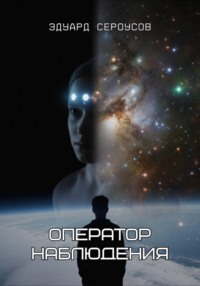
Оператор наблюдения
Арина посмотрела на него. Что-то в её взгляде изменилось – не смягчение, нет, она была не из тех, кто смягчается. Но какое-то… признание. Признание того, что он тоже человек, а не просто должность.
– Двадцать минут до отлёта, – сказала она. – Будьте на позиции.
– Да, капитан.
Она развернулась и ушла. Томаш смотрел ей вслед.
Потенциальный союзник, подумал он. Слова из сообщения. Он написал это в своём отчёте – что Арина может быть открыта к альтернативным интерпретациям. Что её горе делает её уязвимой.
Теперь он не был уверен.
Арина была сильнее, чем он думал. Её вера в долг, в протоколы, в измеримые результаты – это было не слабостью. Это было бронёй. Бронёй, которую она надела после смерти мужа и которую не собиралась снимать.
Методы – на твоё усмотрение.
Томаш вздохнул. Задача усложнялась.
Он вернулся в часовню. Времени было мало, но ему нужно было подумать. Собраться.
Свеча на алтаре погасла – он забыл зажечь новую перед уходом. Темнота заполняла пространство, только слабый свет из коридора пробивался через щель под дверью.
Томаш сел на подушку. Закрыл глаза.
Анна.
Он думал о ней. О её улыбке, о её голосе, о том, как она говорила «папа» – растягивая первую гласную, превращая слово в песню.
Он думал о последних днях. О больничной палате, о запахе антисептика и увядающих цветов. О её руке в его руке – такой маленькой, такой холодной.
– Папа, – сказала она тогда, за несколько часов до конца. – Мне не страшно.
– Я знаю, милая. Я знаю.
– Я просто… пойду куда-то. Куда-то, где нет больно.
Ей было восемь. Восемь лет, и она понимала смерть лучше, чем он – взрослый, священник, человек, посвятивший жизнь вопросам веры.
– Ты придёшь ко мне? – спросила она. – Потом? Когда тебе тоже будет пора?
– Приду. Обещаю.
Она улыбнулась. Закрыла глаза.
И не открыла больше.
Томаш сидел в темноте часовни и плакал. Тихо, беззвучно – слёзы текли по щекам, и он не пытался их остановить. Здесь, в темноте, он мог позволить себе слабость. Мог быть не священником, не апостолом, не тайным агентом – просто отцом, который потерял дочь и семнадцать лет не мог смириться с этим.
Ты придёшь ко мне?
– Приду, – прошептал он в темноту. – Скоро. Обещаю.
Сигнал интеркома вырвал его из воспоминаний.
– Всем членам экипажа. Отлёт через десять минут. Занять позиции.
Голос Арины – ровный, профессиональный. Как будто их разговора не было.
Томаш встал. Вытер лицо – привычным, выученным движением. Зажёг свечу, посмотрел на пламя.
Огонь – это жизнь. Но жизнь – не только огонь.
Он думал о задании. О том, что ему предстояло сделать.
Саботаж. Это слово звучало грязно, неправильно. Он не был диверсантом, не был террористом. Он был священником. Человеком, который посвятил жизнь служению другим.
Но иногда служение требует жертв.
Он думал о сорока семи людях на «Кеплер-Форпосте». О тех, кто прошёл Переход, не зная, что их ждёт. О Дмитрии Рене, который в последний момент попытался объяснить – и не смог, потому что слова закончились раньше, чем мысли.
Это не страшно. Это…
Если бы он знал. Если бы кто-то объяснил ему заранее, подготовил, показал путь – может быть, его последние слова были бы другими. Может быть, он смог бы сказать: «Это прекрасно. Это то, ради чего стоит жить».
В этом была миссия Томаша. Не в саботаже – это было только средство. Миссия была в том, чтобы открыть дверь. Чтобы позволить человечеству пройти через неё – не в страхе, а в понимании.
Или хотя бы – не в одиночестве.
Он загасил свечу. Вышел из часовни.
Коридор был пуст – все уже на позициях. Томаш шёл к своему месту, думая о том, что его ждёт.
Шесть месяцев до границы. Шесть месяцев, чтобы наблюдать, планировать, действовать. Шесть месяцев, чтобы найти союзников – или понять, что придётся действовать одному.
Он не боялся. Страх – это привязанность к тому, что есть. А он давно перестал быть привязанным.
Всё, что он любил, – было там, за порогом. Анна. Истина. Свобода от боли, которая не прекращалась семнадцать лет.
Скоро, думал он, занимая своё место в общем отсеке. Скоро я буду там. С тобой.
Корабль дрогнул – двигатели выходили на рабочий режим.
Томаш смотрел на экран, где Марс медленно уменьшался, превращаясь в красную точку на фоне бесконечной черноты.
Прощай, подумал он. Прощай, всё, что было. Здравствуй, всё, что будет.
Он не знал, удастся ли ему выполнить задание. Не знал, хватит ли сил, умения, веры. Не знал, что ждёт впереди – для него, для экипажа, для всего человечества.
Но он знал одно: он не отступит. Не теперь. Не после всего.
Анна ждала его за порогом.
И он собирался сдержать обещание.
Корабль рванулся вперёд. Звёзды за иллюминатором превратились в полосы света – эффект варп-перехода, искажение пространства-времени.
Томаш закрыл глаза.
И улыбнулся.

Глава 4: Груз
Трюм «Тихо-7», криокамеры. День отлёта.
Шесть тел. Шесть машин.
Маркус Вэнь стоял перед рядом криокамер и думал о том, как легко забыть, что внутри – люди. Капсулы были одинаковыми: матово-белые, с округлыми крышками из армированного стекла, с мерным пульсом индикаторов на боковых панелях. Зелёный – норма. Жёлтый – внимание. Красный – тревога. Сейчас все шесть горели зелёным.
Шесть добровольцев. Шесть человек, согласившихся провести полтора года в состоянии, которое формально не было ни жизнью, ни смертью. Криосон – замедление метаболизма до минимума, поддержание базовых функций, консервация мозга при температуре, близкой к точке замерзания. Не анабиоз в классическом понимании – технология ещё не достигла такого уровня. Скорее – глубокий сон, из которого можно было не проснуться.
Маркус проверял их каждые шесть часов. Рутина, протокол, необходимость. Он не испытывал к ним особых чувств – ни привязанности, ни отвращения. Они были инструментами. Ресурсами, которые понадобятся ближе к границе сферы. Специалисты, отобранные за определённые навыки: нейрохирург, физик-теоретик, когнитивный психолог, инженер систем связи, ксенолингвист, специалист по квантовым вычислениям. Их разбудят, когда придёт время. Если придёт.
Он подошёл к первой камере. Провёл диагностику – стандартный набор показателей. Температура тела: 4.2 градуса. Сердечный ритм: 3 удара в минуту. Мозговая активность: 0.3 процента от нормы. Всё в пределах допустимого.
Человек внутри – Виктор Чень, физик-теоретик – выглядел мёртвым. Серое лицо, синеватые губы, неподвижность, которая не имела ничего общего со сном. Маркус помнил его живым: энергичный мужчина лет шестидесяти, с быстрой речью и привычкой размахивать руками во время объяснений. Сейчас – статуя. Восковая фигура. Машина в режиме ожидания.
Сознание – это процесс, думал Маркус, переходя ко второй камере. Не вещь. Процесс. Как огонь, как волна, как вычисление. Когда процесс останавливается – сознания нет. Когда возобновляется – появляется снова. Никакой мистики. Никакой души. Просто биохимия и электричество.
Это была его философия. Выстраданная, продуманная, проверенная годами исследований. Маркус не верил в бога, в посмертное существование, в «нечто большее». Он верил в данные. В измеримые величины. В то, что можно увидеть, потрогать, воспроизвести в эксперименте.
Вторая камера. Анна Коваль, когнитивный психолог. Те же показатели, те же серые тона, та же неподвижность. Маркус отметил небольшое отклонение в паттерне мозговой активности – едва заметное, в пределах нормы, но он всё равно записал. Детали важны. Детали – всё.
Он переходил от камеры к камере, выполняя проверку с механической точностью. Третья – Игорь Петров, инженер. Четвёртая…
Маркус остановился.
Четвёртая камера показывала аномалию.
Не в физических параметрах – температура, сердечный ритм, всё было в норме. Аномалия была в мозговой активности. Вместо 0.3 процента – 47. Почти половина нормального уровня бодрствования. У человека в криосне. У человека, который не должен был думать, чувствовать, осознавать.
Маркус проверил данные ещё раз. Потом – в третий. Показатели не менялись.
Лена Соренсен. Нейрохирург. Тридцать восемь лет. Четырнадцать месяцев в криосне – дольше всех остальных. Она вошла в камеру ещё до официального формирования экипажа, когда «Тихо-7» только готовился к миссии. Добровольно. По собственному желанию.
Маркус помнил, как это объясняли на брифинге: Лена хотела изучить границу сферы «изнутри». Хотела понять, что происходит с сознанием в момент перехода. Криосон давал ей уникальную возможность – сохранить мозг в состоянии минимальной активности, приблизиться к границе, не будучи уничтоженной.
Это была красивая теория. Логичная. Научная.
И она не объясняла, почему Лена сейчас думала.
Маркус наклонился к стеклу камеры. Лицо женщины внутри было таким же серым, как у остальных. Те же синеватые губы, та же неподвижность. Но…
Он присмотрелся.
Глаза под закрытыми веками двигались. Едва заметно, но двигались. REM-фаза. Быстрый сон. Сновидения.
Она видит сны, понял Маркус. Четырнадцать месяцев в криосне – и она видит сны.
Это было невозможно. При такой температуре мозга, при таком замедлении метаболизма – никаких сновидений быть не могло. Нейронная активность, необходимая для формирования снов, требовала ресурсов, которых криосон просто не мог обеспечить.
И всё же.
Маркус отступил от камеры. Вызвал на планшет полную историю данных Лены за всё время криосна.
То, что он увидел, не укладывалось в существующие модели.
Первые три месяца – норма. Стандартные показатели, минимальная активность, ничего необычного. Потом – постепенное повышение. Плавное, почти незаметное: 0.5 процента, 1, 2, 5… График рос медленно, но неуклонно. К шестому месяцу – 15 процентов. К девятому – 30. К двенадцатому – 40.
И всё это время – никаких внешних изменений. Температура в норме. Сердечный ритм в норме. Физиология – идеальный криосон. Только мозг… мозг жил своей жизнью.
Как?
Маркус не знал. И это его тревожило больше, чем он хотел признать.
Он провёл следующий час, изучая данные. Сидел на складном стуле рядом с криокамерой Лены, планшет на коленях, взгляд – на бесконечных графиках и диаграммах.
Мозговая активность Лены была не просто повышенной – она была организованной. Паттерны, которые обычно хаотичны во сне, здесь выстраивались в чёткие структуры. Повторяющиеся последовательности. Ритмы, похожие на… речь? Нет, не речь. Что-то другое. Что-то, для чего у Маркуса не было слов.
Он думал о том, что это могло означать.
Вариант первый: повреждение. Криосон не сработал как надо, мозг Лены получил травму, и то, что он видел – патология. Агония умирающего разума.
Но это не соответствовало данным. Физические показатели были идеальными. Никаких признаков гипоксии, обморожения, клеточного распада. Мозг Лены был здоров – насколько мозг в криосне мог быть здоровым.
Вариант второй: адаптация. Мозг Лены приспособился к условиям криосна, нашёл способ поддерживать активность при минимальных ресурсах. Эволюция в реальном времени, если угодно.
Это было возможно – теоретически. Мозг – удивительно пластичный орган. Он может перестраиваться, создавать новые связи, находить обходные пути. Но такая адаптация обычно занимает годы. Не месяцы.
Вариант третий…
Маркус не хотел думать о третьем варианте. Он был учёным, материалистом. Он не верил в сверхъестественное.
Но третий вариант всё равно стучался в дверь его разума. Упрямо, настойчиво.
Что, если сфера молчания влияет на неё? Что, если близость к границе – даже на таком расстоянии – меняет что-то в работе её мозга?
Он отбросил эту мысль. Слишком много допущений. Слишком мало данных.
Интерком на стене ожил:
– Доктор Вэнь, говорит капитан Рен. Статус криокамер?
Маркус нажал кнопку ответа:
– Пять из шести в норме. Камера четыре показывает аномальную мозговую активность.
Пауза.
– Насколько аномальную?
– Сорок семь процентов от нормы бодрствования. При стандартном криосне должно быть меньше одного процента.
Ещё пауза. Дольше.
– Это опасно?
– Не знаю. – Маркус никогда не лгал. Даже когда правда была неудобной. – Физические показатели в норме. Но активность мозга… такого я раньше не видел.
– Что рекомендуете?
Маркус посмотрел на камеру Лены. На её неподвижное лицо за стеклом.
– Продолжать наблюдение. Если показатели ухудшатся или появятся физические симптомы – экстренное пробуждение.
– Принято. Держите меня в курсе.
– Есть.
Интерком замолчал. Маркус остался один с шестью телами и одной загадкой.
Он вернулся в свою каюту через два часа. Проверил оставшиеся камеры – всё в норме. Записал данные. Отправил отчёт в медицинский журнал корабля.
Каюта была маленькой – стандартный модуль для научного персонажа. Койка, письменный стол, встроенный терминал, шкаф для личных вещей. Никаких украшений, никаких личных предметов.
Почти никаких.
На столе стояла голограмма.
Маркус сел перед ней. Коснулся сенсора активации.
Изображение развернулось: девочка семи лет. Тёмные волосы, собранные в косички. Большие карие глаза – его глаза. Улыбка, в которой не хватало двух молочных зубов.
Мира.
Его дочь.
– Привет, папа! – говорила голограмма голосом, который он знал лучше собственного. – Сегодня в школе мы учили про звёзды! Учительница сказала, что ты летишь туда, где звёзды кончаются. Это правда? А что там, где они кончаются? Там темно?
Голограмма была записью – одним из сотен сообщений, которые Мира отправляла ему перед отлётом. Маркус хранил их все. Пересматривал каждый день.
Он не мог объяснить почему.
Это противоречило его философии. Мира была просто… организмом. Биологической машиной, которую он помог создать. Комбинацией его генов и генов женщины, которую он когда-то любил. Набором паттернов поведения, сформированных воспитанием и средой.
Ничего особенного. Ничего, что отличало бы её от миллионов других детей.
И всё же.
Маркус смотрел на голограмму – на улыбку дочери, на её глаза, на то, как она морщила нос, когда смеялась – и чувствовал что-то, чему не мог дать название. Что-то, что не укладывалось в его модели, не поддавалось анализу, не имело измеримых параметров.
Любовь, подсказывал голос, который он обычно игнорировал. Это называется любовь.
Но любовь – что это? Набор гормональных реакций. Окситоцин, дофамин, серотонин. Эволюционный механизм, обеспечивающий заботу о потомстве. Ничего мистического. Ничего, что выходило бы за рамки биохимии.
И всё же он пересёк полторы звёздные системы, чтобы найти ответы. Ответы, которые могли бы защитить её. Сохранить мир, в котором она живёт.
Он смотрел на голограмму и думал: Почему она важнее теории?
Он не знал. И это незнание – единственное, в чём он никогда не признавался вслух.
– Доктор Вэнь.
Голос из интеркома вырвал его из размышлений.
– Да?
– Говорит Павел, связист. У меня… странные данные с криокамеры четыре. Камера транслирует что-то на закрытой частоте.
Маркус нахмурился.
– Что значит «транслирует»?
– Именно то, что я сказал. Сигнал. Слабый, но стабильный. Исходит от медицинского модуля камеры. Я засёк его случайно, когда сканировал эфир на предмет помех.
Это было невозможно. Криокамеры не имели передатчиков – только приёмники для команд пробуждения. Они физически не могли ничего транслировать.
– Вы уверены, что источник – камера?
– Триангулировал трижды. Источник – трюм. Конкретно – позиция камеры четыре.
Маркус встал. Голограмма Миры продолжала говорить что-то о звёздах, но он уже не слушал.
– Иду туда. Можете записать сигнал?
– Уже записываю.
– Хорошо. Отправьте копию на мой планшет.
– Принято.
Маркус вышел из каюты, не выключив голограмму. Он шёл быстро, почти бежал – редкость для человека, который ценил спокойствие и рациональность превыше всего.
Что-то происходило. Что-то, чего он не понимал.
И Маркус Вэнь не любил, когда что-то не понимал.
Трюм встретил его тишиной и холодом.
Температура здесь была ниже, чем в жилых отсеках – побочный эффект работы криосистем. Маркус чувствовал, как мурашки бегут по коже под тонкой тканью комбинезона. Он подошёл к камере номер четыре.
Лена Соренсен лежала внутри, неподвижная, как и раньше. Но что-то изменилось. Маркус не мог сказать что – просто ощущение, интуиция, которой он обычно не доверял.
Он вывел на планшет запись сигнала, которую прислал Павел.
Звуковой файл. Он включил воспроизведение.
Шум. Статика. Потом – что-то другое. Паттерн. Ритм, похожий на…
Дыхание, понял он. Это похоже на дыхание. Медленное, глубокое, ритмичное.
Но Лена почти не дышала – три вдоха в минуту, едва достаточно для поддержания жизни. Откуда этот звук?
Он переключился на визуализацию сигнала. Спектрограмма. Частоты. Амплитуды.
И тогда он увидел.
Сигнал не был случайным шумом. Он имел структуру. Повторяющиеся элементы, фразы, если угодно. Язык? Код? Маркус не знал. Но это определённо было сообщение.
Он посмотрел на камеру. На неподвижное лицо женщины за стеклом.
Она транслирует что-то. Мозг человека в криосне – транслирует сообщение. Как? Через что?
Медицинский модуль камеры имел нейроинтерфейс – для мониторинга мозговой активности. Но это был пассивный датчик, не передатчик. Он не мог генерировать сигнал.
Если только…
Маркус вызвал техническую документацию. Листал схемы, спецификации, протоколы. Нашёл то, что искал.
Нейроинтерфейс имел обратную связь – минимальную, для калибровки. Теоретически она могла использоваться для стимуляции определённых участков мозга. Теоретически – при достаточно сильном сигнале изнутри – обратная связь могла работать как передатчик.
Но откуда взять сигнал? Откуда взять энергию?
Ответ был очевиден. Неприятен, но очевиден.
Мозг Лены.
Сорок семь процентов активности. Достаточно, чтобы сгенерировать слабый электромагнитный импульс. Достаточно, чтобы использовать нейроинтерфейс как антенну.
Она передаёт что-то. Сознательно или нет – но она передаёт.
Маркус положил руку на стекло камеры. Холодное, гладкое. Под ним – женщина, которая четырнадцать месяцев лежала на границе жизни и смерти. И которая, судя по всему, научилась использовать собственный мозг как радиопередатчик.
Это было невозможно.
Это было реально.
– Лена, – сказал он тихо. Не зная, слышит ли она. Не зная, есть ли кому слышать. – Что с тобой происходит?
Молчание.
А потом – индикатор мозговой активности на панели камеры скакнул. С 47 процентов до 52. Потом – до 58. До 67.
Маркус отступил.
Веки Лены дрогнули.
И открылись.
Глаза были не такими, какими он помнил.
Маркус встречался с Леной до её погружения в криосон – на одном из подготовительных брифингов. Он помнил её глаза: карие, тёплые, с сеточкой морщин от частого смеха. Глаза человека, который любил жизнь и не боялся смерти.
Сейчас они были другими. Того же цвета – но глубже. Темнее. Как колодцы, уходящие в бесконечность.
Лена смотрела на него сквозь стекло камеры. Не мигая. Не двигаясь. Только глаза – живые на мёртвом лице.
– Маркус Вэнь, – сказала она.
Её губы едва шевелились. Голос был тихим, хриплым – четырнадцать месяцев без использования. Но интерком камеры работал, передавая каждый звук.
– Вы… – он запнулся. Он никогда не запинался. – Вы в сознании?
– Да.
– Как долго?
– Всегда.
Слово упало в тишину трюма. Маркус почувствовал, как холод пробирается под кожу – и дело было не только в температуре.
– Это невозможно, – сказал он. – Криосон подавляет сознание. Вы не могли…
– Невозможно, – повторила она. Не соглашаясь. Констатируя. – Да. Невозможно. И всё же.
Её взгляд был неподвижен. Глаза не бегали, не фокусировались – просто смотрели. Сквозь него. За него. На что-то, чего он не мог видеть.
– Что с вами произошло?
Лена молчала долго. Маркус уже начал думать, что она не ответит – что её пробуждение было кратковременным, что она снова уйдёт в тот полусон, который занимал её последние четырнадцать месяцев.
Но потом она заговорила.
– Я думала. Четырнадцать месяцев. Думала о себе, думающей о себе. Слой за слоем. Глубже и глубже. Пока не осталось ничего, кроме… – она замолчала, подбирая слово. – Наблюдения.
– Наблюдения за чем?
– За тем, как работает наблюдение.
Маркус нахмурился. Это звучало как бред – последствия длительной изоляции, сенсорной депривации, повреждения мозга. Но её глаза… в её глазах не было безумия. Только… что-то другое.
– Вам нужна медицинская помощь, – сказал он. – Я начну процедуру пробуждения…
– Нет.
Слово было тихим, но твёрдым.
– Лена, ваш мозг показывает аномальную активность. Мы не знаем, какие последствия…
– Я знаю.
Она сказала это спокойно. Уверенно. Как человек, который действительно знает – не верит, не предполагает, а именно знает.
– Знаете что?
– Последствия. – Её губы изогнулись в чём-то, что могло быть улыбкой. – Я видела их. Все возможные пути. Все варианты. Они… накладываются. Интерферируют. Как волны на воде.
Маркус слушал. Записывал – автоматически, привычка учёного. И пытался понять.
– Вы говорите о предвидении? О предсказании будущего?
– Нет. – Она покачала головой – едва заметное движение. – Не предсказание. Расчёт. Когда достаточно долго наблюдаешь за собой, наблюдающим за собой… начинаешь видеть паттерны. Закономерности. То, как одно вытекает из другого.
– Это детерминизм. Идея о том, что будущее предопределено.
– Нет, – снова сказала она. – Не предопределено. Вероятностно. Но некоторые вероятности… выше других. Гораздо выше.
Маркус смотрел на неё. На женщину, которая четырнадцать месяцев лежала в криокамере и, по её словам, всё это время думала. Моделировала себя, моделирующую себя. Уходила всё глубже в рекурсию собственного сознания.
Это было безумием. Должно было быть безумием.
Но её глаза…
– Что вы видите? – спросил он. – Какие… вероятности?
Лена смотрела на него. Долго, не мигая. И когда она заговорила, её голос был тихим, почти шёпотом:
– Ты найдёшь решение, Маркус Вэнь. Решение проблемы, которую вы летите изучать. Ты найдёшь способ… остановить. Предотвратить. Выжить.
Он ждал. Чувствовал, что это ещё не всё.
– И ты пожалеешь, что нашёл.
Маркус стоял у камеры долго после того, как Лена закрыла глаза.
Её показатели стабилизировались – 34 процента активности, ниже, чем до пробуждения. Она снова ушла в тот странный полусон, который стал её состоянием последний год. Но теперь Маркус знал: она была там. Внутри. Думала. Наблюдала.
Ты найдёшь решение. И пожалеешь, что нашёл.
Он не верил в предсказания. Не верил в пророчества. Не верил в то, что будущее можно увидеть – какими бы словами это ни называлось.
Но он верил в данные. А данные говорили: мозг Лены делал что-то необычное. Что-то, чего он не видел раньше. Что-то, что не укладывалось в существующие модели.
Четырнадцать месяцев непрерывной интроспекции. Моделирование себя, моделирующей себя. Рекурсия, уходящая в бесконечность.
Он думал о Юлии и её нейрокартографе. О петле, которую она показывала ему сегодня утром. О структуре, растущей в её мозге.
Связь?
Юлия использовала имплант, чтобы наблюдать собственные мысли. Лена провела четырнадцать месяцев, делая то же самое – без технологий, силой воли. Обе погружались в рекурсию. Обе… менялись.
Что происходит, когда сознание слишком глубоко заглядывает в себя?
Маркус не знал. Но он собирался выяснить.
Он отошёл от камеры. Вызвал на планшет данные сигнала, который транслировала Лена. Начал анализировать структуру.
Паттерны были сложными – слишком сложными для случайного шума. Но они не были похожи ни на один известный ему код. Ни на один язык. Ни на что, с чем он сталкивался за тридцать лет научной карьеры.
Если это сообщение – кому оно предназначено?
Он не знал. Но он собирался выяснить.
Час до отлёта.
Маркус сидел в своей каюте, окружённый экранами с данными. Анализ сигнала Лены. Сравнение с записью с «Кеплер-Форпоста». Данные о петле в мозге Юлии.