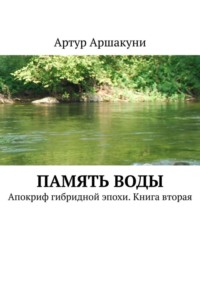
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая
Ворон делает успехи и ликующе каркает.
Время от времени, когда устает, он прерывает урок и распрямляет крылья, словно человек, кто, вспотев, распахивает полы одежды для прохлады, и тогда становится похожим на небольшой черный крест, внезапно оперенный.
Караван уходит вперед.
Догнать, обязательно догнать и остановить.
Раффи все ближе.
Шуршат, развеваясь на ходу, ленты.
И когда до него остается несколько шагов, он оборачивается.
У него нет лица.
Ворон слетает с его руки на ступу.
Из цепочки верблюдов в караване выбегает разъяренный слон.
Ворон взлетает над ним, и слон топчет ногами ступу, наполненную спелыми ягодами кизила.
Отдельные ягоды скачут в стороны, словно капли крови по пыли из раны, небольшой, но полученной от мастерского удара – глубоко и в жизненно важную часть тела.
Раздается заполошный крик, смесь рыдания и смеха, когда страдание превосходит способность тела терпеть боль.
Откуда крик?
Он один.
Он?
Он начинает с изумлением рассматривать (свое?) гигантское ухо, сросшееся с его правой ногой, так что идти теперь можно только боком и наискосок влево, подволакивая под себя ухоногу.
Каждое движение причиняет мучительную боль барабанной перепонке, так что, в конце концов, он садится, вернее, падает, измученный, но перепонка продолжает болеть и вспучиваться из уха гигантским пузырем, словно раздуваемая переполняющей его мукой, что сопровождается сводящим его с ума заунывным визгом на грани человеческого восприятия и вот уже за этой гранью, когда звуки обретают цвет и плоть, а цвет становится кричащей плотью.
Этот – звукоцвет? цветозвук? – продолжается до тех пор, пока он не делает попытки встать, и тогда гигантский пузырь лопается, и через него прорастает сосна с сочным янтарным стволом, словно тело зрелой женщины, в расцвете красоты и плодовитости, но вместо двух – парных – символов женской плодовитости у нее только один, а второго нет, а есть уродливая язва, покрытая шрамами.
Шрамы змеятся по коре во все стороны, и она растрескивается; трещины разрастаются вширь и вглубь, так что, в конце концов (сосна продолжает расти), кора отваливается от ствола кусками, обнажая белеющую плоть – бесстыдно и горделиво вздыбленную мужскую плоть – символ владыки и повелителя.
Ноги странного исполина с женской – одной, но царственно-прекрасной – грудью и подавляющим своей мощью мужским естеством вросли глубоко в землю, а выше плеч клубятся белоснежные облака, и лица не видно, но увидеть его лицо крайне важно, тем более что он не может никуда сдвинуться со своего места.
Сын мой.
От этого голоса рушатся горы и беззвучно разевает рот петух на нижней ветке.
Красивая золотистая змейка шаловливо обвивается вокруг корня и ускользает в свое логово под землей.
Во что бы то ни стало наверх, успеть увидеть его лицо.
У подножия роется в земле, утробно похрюкивая, смердящая от грязи свинья, не обращая внимания на лестницу под ногами.
Скорей!
Осторожно, ступени шаткие.
Как далеко земля.
Ухватиться окрепнувшей, странно очужевшей рукой с холено выращенным ногтем на мизинце за нижнюю ветвь и осторожно подтянуться.
Еще.
Вспышки света сменяются тьмой, все колеблется, уплывает, качается и мельтешит перед глазами, руки тяжелеют, почему-то чем дальше, тем труднее, а ведь должно быть наоборот, ноги наливаются свинцом, не пошевелить ни рукой, ни ногой, грудь сдавлена.
Скорей!
Пространство сужено до ребер.
Ребра первыми воспринимают вибрации извне, грубые, почти отталкивающие.
Вибрации?
Тряска, выматывающая душу тряска.
Заунывная музыка, состоящая из неравных дробных ударов во множество мелких барабанов.
Музыка?
Стук копыт.
Стук копыт по каменистой дороге.
Стук копыт.
Глава четвертая Старая колыбель
Возвращаясь с очередного славно проведенного дежурства, Пантера и Тит издали услышали звуки труб и барабанный бой.
– Эге! – Тит остановился и прислушался. – Пантера, это не нас с тобой встречают с такой торжественностью?
Он засмеялся, довольный. Не дождавшись ответа от друга, оглянулся.
– Пантера!
Пантера стоял, рассматривая лошадиные яблоки.
– Пантера!
Тит озадаченно помедлил, потом снова рассмеялся.
– Жрецы могут толковать будущее по потрохам, – он подошел к Пантере, – а ты, видать, умеешь делать то же самое по дерьму.
– Яблоки совсем свежие, – задумчиво проговорил Пантера, – вот здесь. А здесь – уже подсохшие. Но вчера их не было. Значит, они утренние. Здесь прошло много лошадей, Тит, не будь я… впрочем, неважно.
– Ну и что? Перегоняли табун. Что тебе до этого?
– Табун? Лошадей?! Здесь, в нищей Иудее, кошка считается богатством, откуда у них табун лошадей?
– Здесь полно египтян, сирийцев, эллинов, – Тит не желал сдаваться. – Десятиградие21 рядом. Знаешь, какие они лошадники?
– Знаешь, как мне хочется приложить кулак к твоему уху за твое ослиное упрямство! – обозлился Пантера. – Посмотри на следы, лошадник! Разве так ходит табун? Правильными рядами, по пять в ряд?
– Сдаюсь, – засмеялся Тит. – Правильными рядами по пять в ряд ты меня доконал. Тогда что это?
– Это не табун, – Пантера покачал головой. – Это регулярная римская кавалерия на походном марше. Утром они прошли по направлению к нашему лагерю, а только что вернулись обратно.
– Нет, тебе точно надо было идти в оракулы, – Тит покрутил шишковатой головой. – Может, ты скажешь еще, зачем они приходили? И еще – какой они были масти? И главное – сколько среди них кобыл и сколько жеребцов?
– Не знаю, – медленно сказал Пантера, не откликаясь на шутку, – но когда собирают легион в полном составе в мирное время, мне это не нравится. Прибавим шагу.
Друзья поспешили в лагерь, прошли ворота, миновали форум и вскоре уже пробирались по главной улице между правильными рядами палаток к расположению их декурии. До них донесся женский смех из одной палатки, а немного погодя – высокие пьяные голоса из другой.
– Пантера, ты хоть что-нибудь понимаешь? – Тит еле успевал за Пантерой.
Они подошли к своей палатке. Навстречу им вышел Луций Нигр.
– Наконец-то! – он недовольно оглядел подошедших.
– Послушай, старина… – начал Пантера.
– Старина? – Луций Нигр побагровел. – А ну, контубернал, доложить как положено!
Желтые глаза Пантеры сузились, вспыхнув.
– Пантера! Это… Командир! – Тит заволновался, почувствовав неладное. – Ну, это… контубернал Пантера и солдат Тит… в общем… закончили обход территории… это… за время дежурства, значит… никаких происшествий…
– Вот так, – медленно протянул Луций Нигр, – а то распустились, понимаешь!
Он важно прошел к палатке, оглянулся.
– Никаких происшествий? – усмехнулся он и скрылся за пологом.
Пантера и Тит переглянулись.
– Раньше мне это просто не нравилось, – сказал задумчиво Пантера, – а теперь мне это активно не нравится.
Луций Нигр снова показался в проеме палатки.
– Солдат Тит и контубернал Пантера, ко мне!
Они вошли в палатку. Луций Нигр ждал их с кувшином в руках.
– Угощение за счет командира, – важно сказал он. – Чаши найдете сами.
– Эмилия Лонгина?
– Нет, берите выше, – маленький опцион приосанился. – Командующего всеми легионами в Сирии и Иудее!
Тит с Пантерой снова переглянулись.
– Ты хочешь сказать… – начал Тит.
– Да, – кивнул Луций Нигр, – он угощает всех, и вас в том числе.
– Нас? – Тит вытаращил глаза.
– Да.
– Тогда почему ты принес три чаши? – неожиданно спросил Пантера.
Луций Нигр медленно переводил взгляд с Пантеры на Тита.
– Ты командир, не спорю, – продолжал Пантера, – но этот кувшин, как ты сам сказал, – наш с Титом. А третья чаша означает, что мы пьем вместе, не так ли, старина?
Луций Нигр снова начал багроветь.
– Не забывай, Пантера, – сказал он наконец, – кто из нас – старший командир, кто – подчиненный солдат, а кто – всего-навсего младший командир, следовательно – такой же подчиненный.
– Пантера, хватит, не заводись! – с досадой сказал Тит, с нетерпением оглядывая кувшин. – Командир, славный наш Луций Нигр, опцион ненаглядный, единственный и неповторимый, – так я налью?
Луций Нигр кивнул, проворчав что-то еще насчет дисциплины, и взял поданную ему Титом чашу.
– Ничего не понимаю, – сказал Тит, берясь за свою чашу, – что тут произошло за время нашего дежурства?
– Так вы действительно ничего не знаете? – Луций Нигр снова повеселел.
– Ничего, клянусь Гекатой!
– Торжественное построение всего легиона! – начал Луций Нигр, выпячивая грудь. – Лучники, пращники, иммуны, кавалерия, пехота… Аквилиферы – вперед! Вынос знамени и ларца с серебряным римским орлом! Ну, – это вам о чем-нибудь говорит?
– Праздник какой? – осторожно спросил Тит.
– Не иначе как наш строгий, но справедливый командующий хочет организовать себе триумф, – Пантера одним махом осушил чашу.
– Э, сначала он объявил, что каждый солдат легиона получает по три золотых сестерция, – продолжал Луций Нигр, – и сам, лично, принял участие в раздаче денег.
– О боги! – жестко усмехнулся Пантера. – Это, Тит, тянет не на триумф, а на скромную овацию22.
– Ты дерзок, Пантера, не только ко мне, но и к командующему, – протянул Луций Нигр, – но я тебя прощаю, контубернал, потому что по его приказу легион получил три дня отдыха.
– Да что же такое случилось, Луций Нигр, ты можешь сказать, наконец? – Пантера отставил чашу и в упор посмотрел на опциона. – К Манам твою таинственность!
Луций Нигр откашлялся и погладил свой нос.
– Божественный Август занял свое место в пантеоне равных себе богов, – торжественно сказал он и выждал приличествующую паузу.
Пантера и Тит ошеломленно молчали.
– Преемником его власти и полномочий, – продолжил Луций Нигр, – сенатом объявлен…
– Германик! – в один голос воскликнули Пантера и Тит.
Луций Нигр досадливо поморщился и поднял руку.
– Да здравствует император Тиберий Цезарь Август! – возгласил он и споро скомандовал: – Тит, налей-ка всем.
Тит потянулся за кувшином. Из-за палаток послышались пьяные крики и визгливый женский смех.
– Неплохо, – сказал Пантера, – неплохо. По кувшину кислятины и три сестерция на брата. Цена хорошего вьючного мула, Нигр? И на три дня лагерь превращен в лупанар23. И все довольны, верно?
– А ты сам чем-то недоволен, Пантера? – вкрадчиво спросил Луций Нигр. – Тем более что тебе полагается четыре с половиной.
– Да нет, почему? – Пантера пожал плечами. – Так где мои законные четыре с половиной сестерция?
– Да, – оживился Тит, – и мои три тоже.
Луций Нигр расплылся в широкой улыбке.
– Я их отнес на покрытие вашего долга, – сказал он, – вы что, забыли?
– Вот и славно, – усмехнулся Пантера, – начинаем новую жизнь, а?
– Да, – важно кивнул Луций Нигр, – потом отдельно собрали всех командиров манипул, центурий и декурий. Как раз про новую жизнь.
– И что? – спросил простодушный Тит.
– Извини, Тит, – захохотал Луций Нигр, – но ты не командуешь даже вьючной клячей в обозе нашего легиона, так что я промолчу.
– Поделись, а то вдруг забудешь, – сказал невзначай Пантера.
– Нет, – Луций Нигр покачал головой и прищурился. – Не забуду. Память у меня хорошая.
– Ну что ж, – сказал Пантера, – за неслыханную щедрость нашего нового императора и за твою отличную память!
И залпом осушил чашу.
* * *
Ты ошибся, Тиберий.
Начинать свое правление с преследования иудеев24 – это ошибка. Крохотная, незаметная, но ошибка. Кто они? Горсть песка в твоей необъятной империи?
И да, и нет.
Кто они?
Отсюда, сверху, хорошо видна суета
на улицах Верхнего города.
Так и есть, по пестроте одежд судя, – богомольная
деревенщина.
Писцы, торговцы, менялы,
тщедушный глава семьи, сопливый мальчонка,
купцы, учетчики. Тысячами нитей они привязаны к громадному колоссу, уходящему за облака, имя которому – Рим.
а она…
Нет, даже это пестрое и безвкусное самарянское одеяние
не скроет этих выдающихся – какое многогранное слово – прелестей. Воистину хороша!
Что будет, если перерезать эти нити?
Первыми это почувствуют твои же приближенные, гордые патриции, величественные сенаторы, родовитые всадники. Привыкшие к роскоши, считающие все блага этого мира своей собственностью, они обжираются этими благами, не утруждая себя их пониманием. Серебро Испании? Пшеница Египта? Изумруды Индии? Рабыни Скифии? Это – не более чем мираж в пустыне Синайской.
Они впервые пришли в Иевус и сдуру отвешивают поклоны уже под окнами моего дома!
А для того, чтобы этот мираж стал реальностью, нужно нечто очень простое и скучное: спрос, предложение, цена, стоимость доставки, выручка, убыток, прибыль…
Пусть этим занимаются твои гордые патриции, Тиберий!
Он представил себе выдающиеся формы и не почувствовал ничего кроме раздражения.
А поскольку никто из них не станет унижать свое достоинство скучными цифрами, к этому привлекут наиболее смышленых из числа рабов.
И это будет началом конца, Тиберий!
Потому что не может существовать империя, управляемая рабами.
Но это будет, к сожалению, не скоро. Империи умирают медленнее, чем люди.
Пока ты просто совершил маленькую ошибку.
А вторая твоя ошибка…
Гаиафа позвонил в маленький серебряный колокольчик. Тут же вошедший служка бесшумно внес поднос с фруктами и засахаренными орешками.
– Стойки ли самаритяне в вере? – спросил Гаиафа, продолжая смотреть с балкона.
Потом внезапно повернулся и уставился на служку немигающими бесцветными глазами.
– Светлейший, – залепетал служка.
– Ступай! – Гаиафа досадливым взмахом отослал его прочь и отщипнул от дымчатой виноградной грозди пару ягод, положил в рот, задумчиво покатал языком, а потом внезапно раздавил и проглотил.
…Вторая твоя ошибка заключается в вере. Да, ты перекраиваешь царства и границы, и столь же неразборчив ты в вероисповедании. Даже твои козлоподобные боги украдены у соседей, Тиберий! У Рима нет своего бога, Тиберий! А это хуже, чем не иметь своей армии. Оглянись вокруг себя. Север – поклонение пням и вкопанным в землю бревнам. Запад – пляски вокруг костра. Юг – боги в обличье шакалов и змей охраняют никому не нужные тайны. Восток… Восток? Парфия, Мидия, Сирия… Что такое Сирия, Тиберий? Один варвар-козлопоклонник договаривается с другим варваром-огнепоклонником.
При этом ты забываешь, Тиберий, что непобедимо племя, хранящее завет Моисеев и веру в Единосущего. И крохотная Иудея, которую не замечают твои высокомерные глаза, подобна занозе в теле твоей империи. Тебе известно, к чему приводит заноза, если ее не заметить? Правильно: с живого тела начинают отваливаться смрадные куски гниющей плоти!
– Светлейший!
Гаиафа резко обернулся. В дверях снова показался служка.
– Тебя хотят видеть, Светлейший.
– Кто? – отрывисто бросил Гаиафа.
– Жена Четверовластника.
– Ирида?!
Гаиафа помедлил.
– Зови. Да, это… Подай вина к фруктам.
Служка с поклоном скрылся. Гаиафа отщипнул еще пару виноградин от грозди.
Что надо этой блуднице из Страбониса? Просить денег на поездку в Рим к своему новому повелителю? Для того, чтобы знать, что творится в их хлеву, называемом дворцом, мне хватает сирийского прихлебателя Рувима. Нет, тут что-то другое…
Она уже входила, и Гаиафа повернулся к ней лицом, скрестив руки на груди.
Она была в короткой, по римской моде, смелого покроя тунике, заколотой у плеча золотой египетской брошью в виде ящерицы. Пышные волосы тщательно уложены в сложное сооружение, украшенное над левым ухом желтой розой. На лице застыла официальная улыбка.
Называть ее – ее – госпожой?!
Он молча указал ей кресло. Она села.
Что-то все-таки было в ней от своего царственного – несмотря ни на что – деда, а особенно темные, цвета горьких армянских огурцов25, слегка навыкате глаза, которые сейчас с любопытством оглядели столик египетской работы, вазу с фруктами, легкие занавесы, скрывающие подходящего к краю балкона, оценили открывающийся отсюда вид города и остановились на Гаиафе. Длинные изогнутые ресницы дрогнули, словно бабочка на миг сложила и снова развернула крылья. Она заговорила тоном светской львицы:
– Оставим церемонии для простолюдинов, Светлейший, у меня немного времени.
Гаиафа молча ждал продолжения.
– Мы собираемся в Рим на чествование Тиберия…
В горьких огурцах заплясали огоньки, как будто к ним поднесли факел.
– … Должна же я увидеть своими глазами эти медленные челюсти!
Гаиафа невольно сжал кулаки.
Святые пророки, и это ничтожество, эта пустоголовая вертихвостка будет приветствовать Тиберия от имени всех колен Израилевых!
Крылья бабочки дрогнули еще раз, явив ему взгляд благонравной послушницы.
– Я подумала и решила, что поступлю правильно, если согласно вере отцов наших явлюсь к тебе для высочайшего благословения и принесу приличествующую случаю благодарственную жертву.
– В таком виде! – не выдержал Гаиафа.
– Однако, Светлейший, и на тебе нет власяницы!
Крылья бабочки снова дрогнули. Теперь на него лукаво смотрела дерзкая девчонка.
Она просто забавляется! Каждый раз, взмахнув своими бесовскими ресницами, она надевает новую маску. Игра, но опасная игра. Берегись.
– Если ты не будешь присутствовать во время жертвоприношения, то жертва от тебя может быть принята, – сухо сказал он.
– Кем, о Гаиафа, – Богом? Или тобой?
Берегись.
И еще раз берегись.
– Согласно Зевахим Кодашим26, жертва благодарения должна быть…
Глаза Ириды неожиданно вспыхнули, ноздри тонко очерченного носа с легкой горбинкой встрепенулись. Гаиафа замолчал.
Воистину внучка Ирода!
– Я знаю Тору, Светлейший! Как-никак, у меня был личный равви. Очень симпатичный, кстати.
Бабочка ее ресниц взмахнула крыльями. На него снова смотрела смиренная послушница.
– Что такое жертва, Светлейший? Как ты ее понимаешь? Объясни мне, в чем ее смысл?
Гаиафа долго смотрел на это лицо с непрерывно меняющимся на нем, словно маска лицедея, выражением.
– Ты хочешь начать новое толкование Писания? – подняв узкую бровь, спросил он.
– Я хочу знать, – продолжала Ирида, – должна ли быть жертва чем-то дорогим для жертвователя, или нет.
– Безусловно – да, – улыбнулся одними губами Гаиафа, – ибо ничего не стоящая жертва не будет считаться жертвой.
– Значит, – Ирида нахмурила свой высокий, бритый по римской моде лоб, – если жертва очень дорога жертвователю…
– …Тогда она будет принята особенно благосклонно, – закончил Гаиафа, отечески кивая головой.
– Хорошо, – Ирида выпрямилась в кресле и хлопнула в ладони.
Вошла прислужница,
В такой же бесстыдной римской тунике!
внесла корзину, прикрытую крышкой, и молча удалилась.
– Вот, – сказала Ирида, и маслины ее глаз стали бездонно-черными, – это – моя благодарственная жертва.
Из корзины донеслось протяжное мяуканье, переходящее в завывание.
Гаиафа молчал, потрясенный.
Вышвырнуть… растоптать… Унизительно! Уничтожить это гнездо порока прямо сейчас… К свиньям поездку к Тиберию!
– Это – моя любимица Пуцци, – весело говорила тем временем Ирида, – мне очень жаль с ней расставаться, Светлейший, так что жертва моя полноценна!
Гаиафа поднял свои бесцветные глаза.
– Ты…
– Да, совсем забыла! – продолжала Ирида. – Я добавляю к моей Пуцци две тысячи талантов на нужды Храма…
Гаиафа молчал.
Две тысячи талантов. Шлюха не стыдится кичиться своим богатством.
– …И две тысячи талантов – тебе, Светлейший, за твое, будем считать, полученное благословение, – закончила Ирида.
Гаиафа молчал.
Потом снова поднял свои глаза. Встретились два взгляда – снулой рыбы и горьких огурцов. Потом запорхала бабочка, и перед ним предстала светская львица.
– Там, у входа, я видела приведенную в твой дом самарянку… – к огурцам снова поднесли факел. – Молода, но полновата… Правда, в вопросах веры это не имеет значения. Изумительный виноград. Откуда такой? Не кармильский ли?
– Нет. Что? – очнулся Гаиафа, беря в руки колокольчик. – Да.
– Значит, не все у нас плохо, не так ли, Светлейший?
Появился молчаливый служка.
– Призови Иоханнана, – отрывисто приказал Гаиафа, взмахом руки отсылая служку прочь.
– Иоханнан? – щебетала Ирида, лакомясь виноградом. – Забавное имя. Такое старомодное, но ужасно привлекательное.
– Иоханнан – самый способный наш молодой священник, – сказал Гаиафа.
Она вытянула узкую, стремительную, словно ручей, ногу, поигрывая свисающей с пальцев греческой сандалией с желтыми – под цвет туники – ремешками. Она заметила, как он украдкой осматривает ее обнаженную до колена ногу. Бабочка вспорхнула еще раз. Она смиренно поставила ноги рядом, сложила руки на коленях.
– Я молю Светлейшего дать мне личного священника во дворец, чтобы наставлять меня и удерживать от кесарийской скверны.
Она встала из кресла, подошла к окну.
Гаиафа вздрогнул и отвел взгляд от ее ног. Наваждение кончилось.
Ты хочешь найти себе новую игрушку для забавы, блудница, одетая как мальчик? Покойный Саб-Бария не всегда следовал истинному учению и порой был упрям, как мул, но никто не мог упрекнуть его в неблагочестии, а сын его задался целью превзойти всех в праведности. Не обломай свои коготки, внучка Ирода!
Снова жалобно и протяжно мяукнула кошка в корзине.
Это мысль. Присутствие преданного служителя Храма может оказаться полезным. Пусть Рувим участвует в попойках Ад-Дифы. С Иоханнаном я буду в курсе всего, что творится в этом скорпионьем гнезде.
– Я думаю, Санхедрин не будет возражать, – сказал Гаиафа.
Служка появился и шагнул в сторону, впуская Иоханнана. Он вошел, склоняясь в поклоне перед могущественным членом Санхедрина и зятем бывшего наси Ганана.
– Светлейший, – раздался за его спиной певучий и слегка насмешливый голос, – если этот мальчик настолько же праведен, насколько красив, устои веры в Страбонисе будут незыблемы.
Иоханнан замер, не поднимая головы.
Потом раздались легкие шаги, и в поле его зрения показались две миниатюрные ножки в сандалиях с желтыми ремешками, взбегающими по точеным лодыжкам.
– Надеюсь, твой праведник не глухонемой, – продолжал тот же голос.
– Сын мой, – сказал Гаиафа нетерпеливо.
Иоханнан выпрямился. Краем глаза он увидел женщину в нездешнем одеянии, с оголенными руками и ногами, с цветком в волосах и… Она…
Она смеялась.
– Он краснеет, Светлейший, он краснеет! Если бы не пушок на его щеках, я приняла бы его за девочку!
– Сын мой, – продолжал Гаиафа, – жена Четверовластника Ад-Дифы приносит жертву благодарения.
Иоханнан задрожал. Румянец на его щеках на глазах сменялся мертвенной бледностью.
Семя Ирода!
– Я хочу, чтобы ты совершил обряд сей, – Гаиафа небрежно указал на корзину.
Снова послышалось мяуканье. Ирида отошла к окну, наблюдая за обоими.
– А затем, после возвращения Четверовластника из Рима, ты станешь духовным наставником его жены.
Глаза Иоханнана сверкнули. Он вскинул голову, потом сдержал себя, медленно перевел дух.
– Я не буду участвовать в святотатстве, – тихо сказал он.
Гаиафа вскинул бровь.
– Я не расслышал тебя, – сказал он удивленно.
– Я не буду участвовать в святотатстве, – повторил Иоханнан.
– Послушай, ты, Чающий Света и сын Чающего Света, – медленно сказал Гаиафа, сдерживая себя, – здесь я решаю, что есть святотатство, а что – нет. И я говорю, что святотатством является ослушание приказа члена Санхедрина!
Иоханнан стоял, стиснув зубы и прикрыв глаза. На бледном лице прыгали желваки.
Вот он – час испытания! Алиллуйя, Господи, я готов!
Иоханнан открыл глаза.
– Я не буду участвовать в святотатстве, – твердо сказал он.
Гаиафа смешался на мгновение. Повисло гнетущее молчание. А потом раздался смех Ириды.
– Прости, Светлейший, но я ценю твое драгоценное время и не смею отвлекать тебя от многотрудных забот, – она, продолжая смеяться, сделала изящный поклон и удалилась.
Тусклые глаза Гаиафы налились свинцовой тяжестью.
Щенок!
Меня!
Перед этой размалеванной шлюхой!
– Ты будешь наказан, – сказал он звенящим от бешенства голосом, хватая колокольчик. – В оковы этого наглеца! – крикнул он. – Десять ударов бичом! Хлеб и вода до Страбониса!
Иоханнана подхватили, заламывая ему руки, и поволокли из комнаты.
– На все воля Господня, – успел прохрипеть он.
Появился служка, приносящий фрукты, приступил к уборке.
– Самарянка, значит? – негромко сказал Гаиафа, подходя к нему.
Служка поднял на него преданные глаза.
И Гаиафа ударил его в лицо, вложив в удар всю свою злость и раздражение.

