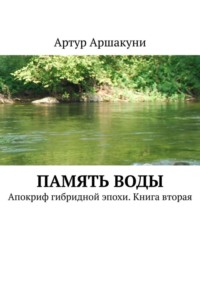
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая
Шахеб довольно потирает запотевшую лысину. Видно, что он пытается скрыть свое волнение за показным равнодушием.
– Я доволен им, – с усилием говорит он и, не сдержавшись, продолжает: – Да, не случайно его выделяет Учитель. Я за всю свою жизнь не встречал более способного послушника. За один год он прошел все ступени, на что иным нужны годы и годы упорного труда! Я сказал – послушник? – он оглядывает людей. – Нет, он уже перерос меня… И после посвящения он станет таким же Наставником, равным остальным.
– Хвала тебе, Солнцеликий! – благоговейно шепчет женщина, и остальные вместе с ней поднимают к солнечному диску руки.
Затем Шахеб тепло прощается с ними и уходит в сопровождении Айсора.
Он ведет юношу тропой, соперничающей в прихотливости с речкой, за поля и дальше, к холмам, поросшим орешником.
– Скажи, досточтимый…
– Слушаю тебя внимательно.
– Что надо делать в гробнице?
– Смотри, какая птица. Сколько в ней величия!
– Ты не ответил.
– Эх, Айсор, напряги хоть немного свой разум, и ты поймешь, что я тебе ответил… Придет срок – узнаешь. Или ты уже оробел?
– Нет-нет! А эта Оэ…
– Горяч-то ты горяч, юный Айсор, а вот задать вопрос тебе жара не хватает, – смеется Шахеб.
– Она вправду глухонемая?
– Вправду, вправду. А что – это тебе может как-то помешать?
– Нет, – смущается Айсор.
– А девушка она красивая, верно?
– Не знаю, я ее вижу нечасто и все издалека…
– Э, милый мой, – хитро прищуривается Шахеб, – истинную красоту можно заметить сразу и на любом расстоянии! Но ничего, познакомишься, может, и разглядишь вблизи ее красоту. А что глухонемая – ничего, зато тайн наших не выдаст.
– Каких тайн?
– Смотри, Айсор, кто-то идет вон там, за орешником. У тебя глаза молодые, ну-ка присмотрись.
– Это Ка… Кал… Калки Аватар, – робея и запинаясь, говорит Айсор.
– Что ты говоришь?
Шахеб взволнованно идет навстречу маленькой фигуре в белом, мелькающей среди кустов и деревьев. Да, это он.
Чжу Дэ идет неторопливо, бережно придерживая отводимые руками гибкие ветви. Теперь, когда он вблизи, его можно рассмотреть. Он сильно изменился. Волосы, прежде светлые, теперь потемнели и приобрели оттенок спелой пшеницы. Лицо утратило прежнюю подвижность и выразительность. Теперь на нем отпечаток усталости и отрешенности, как у человека, долгое время пытающегося вспомнить нечто важное. Легкий рыжеватый пушок на щеках придает ему немного суровый вид. Он вырос – на две головы выше Шахеба – но остался таким же худым и поджарым. Не изменились только глаза – такие же синие и бездонные, они остались глазами ребенка, просто и доверчиво вбирающими окружающий мир.
Но Шахеб замечает еще и грязную накидку и испачканные сажей изящные руки Чжу Дэ с тонкими длинными пальцами. Вдобавок одно пятно еще и на его щеке.
– Чжу Дэ! – Шахеб в недоумении. – Что случилось?
Чжу Дэ переводит взгляд с Шахеба на Айсора, своего ровесника, слегка наклоняет голову, приветствуя его, потом снова глядит на Наставника и молчит.
Разве он не знает, что случилось?
– Почему ты здесь?
– Потому что я должен быть здесь.
– Ты же должен готовиться к последнему испытанию перед посвящением, а не осквернять себя прахом земным.
– Обращение к праху делает душу еще чище, – тихо говорит Чжу Дэ.
– Сможешь ли ты пройти посвящение?
Чжу Дэ молчит.
– Почему ты молчишь?
Чжу Дэ говорит невпопад, словно сам с собой:
– Что важнее – посвящение или подготовка к нему? Посвящение или святость?
Шахеб оглядывается на стоящего рядом Айсора.
– Послушай, Чжу Дэ, – говорит он терпеливо, – предписания Тота-Гермеса обязывают послушника…
– Мудрейший Шахеб, – тихо говорит Чжу Дэ, – я пройду посвящение.
– Чжу Дэ, – Шахеб начинает сердиться, – обряд посвящения предполагает длительную подготовку, долгие дни, проведенные в молитвах и укрощении плоти, настройку души на принятие откровения…
Глаза Чжу Дэ на миг широко распахиваются, обжигая Шахеба холодным синим огнем.
– Зачем усложнять, о Шахеб? – устало говорит он. – Жизнь, – Чжу Дэ обводит рукой вокруг и показывает обожженные ладони, – вот это – лучшая подготовка к посвящению.
– Зачем усложнять? – повторяет Шахеб. – Не нам судить, сложно это или нет. А во-вторых, сложно это или нет, но это – именно так, и мы лишь должны…
– Плохо, – тихо говорит Чжу Дэ.
– Айсор, – говорит Шахеб жадно внимающему юноше, – иди вперед по тропе, я тебя догоню.
И потом, дождавшись, пока затихнут шаги ушедшего вперед Айсора, встревоженно спрашивает Чжу Дэ:
– Почему? Ведь это правильно.
– Правильно это или нет, – улыбается Чжу Дэ, – но это сложно и потому – плохо.
– Не смейся, Чжу Дэ, это серьезные вопросы! – горячится Шахеб. – Ты ищешь простоту там, где ее не должно быть.
– Я не ищу ее! – Чжу Дэ вскидывает голову, продолжая доверчиво улыбаться. – Я не ищу ее, ибо она – везде. Мир прост, ибо он самодостаточен. Мы же его усложняем сами, в силу своей ущербности.
Шахеб долго смотрит на Чжу Дэ.
– Сын мой…
– Я не твой сын! – гневно говорит Чжу Дэ.
Снова наступает молчание. Шахеб потрясен, потому что он никогда не ожидал от своего любимца такой выходки. Судя по смущению Чжу Дэ, он от себя тоже не ждал этого.
– Хорошо, – наконец произносит Шахеб. – Ты молод и горяч, и в силу этого годишься мне в сыновья.
– Нет, – Чжу Дэ упрямо качает головой, сжав зубы.
– Но почему? Что с тобой, Чжу Дэ?
– Ничего, – Чжу Дэ медлит и через силу добавляет: – Не говори так.
– Как же мне с тобой говорить?
– Не знаю, – еле слышно говорит Чжу Дэ и вновь, после паузы, добавляет: – Прости меня.
– Ладно, – Шахеб смеется облегченно. – Согласись хотя бы с тем, что кто-то все-таки есть твой отец.
Но смех застревает в его груди, потому что в следующее мгновение Чжу Дэ бросается к нему, хватает за плечи и, плача и смеясь, кричит ему в лицо искаженным в крике ртом:
– Кто мой отец?!
– Чжу Дэ! – только и успевает потрясенно прошептать Шахеб.
Чжу Дэ, всхлипнув, отпускает Шахеба и отворачивается.
– Прости меня, – говорит он чужим, ломающимся голосом и уходит.
Шахеб с грустью смотрит вслед ему и тихо произносит:
– Ну, если не знаешь ты, о Чжу Дэ, отца своего на этой земле, ищи тогда его на небесах…
Чжу Дэ останавливается на полпути и оборачивается к Шахебу.
– Это ты сказал хорошо, – говорит он.
И затем скрывается за поворотом тропы.
* * *
Ворон, примостившийся на протянутой горизонтально, как величественная длань владыки, ветви исполинской сосны, головокружительно высоко от земли, сунув голову под эбеновое крыло, чутко вслушивается в звуки леса. И хотя он давно замер в этой неподвижной позе, так что, сколько ни всматривайся, его не заметишь, – ворон не спокоен, нет, не спокоен.
Запах гари с дальнего берега реки тревожит его, бередит родовую память, в которой этот запах прочно связан со сполохами пожарищ, гортанными воинственными криками, блеяньем, ржаньем, мечущимися в дыму людьми, криками женщин, плачем детей и особенным, тяжелым, подавляющим слух молчанием мертвецов.
Сейчас ничего этого нет, и тишину нарушают лишь хохот безумной сойки в глубине леса, деловитое постукивание дятла, недовольное гудение шмеля у подножия сосны и приглушенная расстоянием болтовня сороки.
Ворон ждет.
Потом он внезапно оживает и с непонятным остервенением начинает долбить клювом муравьев, оказавшихся рядом с ним на ветви, словно в наказание за то, что столь малые создания оказались на столь не подобающей им великой высоте, после чего вновь замирает в той же позе, сунув голову под крыло и обратившись в изваяние.
Ворон ждет.
Болтливая сорока на сей раз не обманула – далеко, с околесья, доносится тонкий человеческий голос, напевающий бесхитростную песню.
Когда журавлиха… —
выводит голос, —
Когда журавлиха, завидев черную тучу,
но ворон не вникает в смысл, —Расправляет ослепительно-белые крылья
И в страхе…
он просто знает, что еле слышный голос этот принадлежит славной и доброй девушке, не способной никого обидеть, и просто слушает песню – песню, как часть этого мира.И в страхе, стремясь укрыться от ливня, летит к скалам,
Аджакарани-река бывает тогда так прекрасна!
Когда журавлиха, завидев черную тучу, —
выводит голос, стихая напрочь вдали, так что ощутить его теперь может лишь могучая длань сосны, на которой сидит ворон.
Ворон ждет.
* * *
Чжу Дэ, пробежав по тропе, останавливается и оглядывается. Слева наплывают друг на друга холмы, все круче забираясь вверх и незаметно для самих себя превращаясь в горы. Справа – сплошная зеленая стена зарослей. Под ногами – тропа, которая неспешно, беря передышку после каждого подъема, уводит туда же, в горы.
Тропа – одна на всех.
Чжу Дэ бросается влево, взбегая на взлобье первого холма, потом перескакивая с камня на камень и цепляясь за ветви и узловатые корни, поднимается все выше. Вот одна голова его видна над кустарником, вот уже только изредка в просветах зелени мелькнет его накидка, и наконец, он хватается за мшистый валун, венчающий переход долины в горы, и устало опускается на него.
Здесь тихо.
Чжу Дэ делает несколько вдохов, чтобы унять сердцебиение, потом встает и идет наискосок к склону, среди редких сосен и голубых елей.
…завидев черную тучу,
Ему, наверное, послышалось.Взмывает вверх, белизной слепящей сверкая,
И в страхе…
Нет, не послышалось.
…не зная, где скрыться, расселину ищет,
Чжу Дэ замирает, оглядывается: сзади круча, которую он преодолел (мгновенное смущение, гнев – на себя – стыд и внезапное спокойствие), – и идет
Аджакарани-река бывает так прекрасна20!
навстречу голосу, и когда за кустами показалась фигурка в синем платье и красной накидке,
– О боги!
Рада в испуге вскрикивает,
он уже вполне владеет собой.
замерев, потом переводит дух.
Потом краснеет.
– Чжу Дэ…
– Мир тебе, – говорит Чжу Дэ.
Рада, не отвечая, смотрит на него долго, пока не защиплют немигающие глаза.
– Вот мы и встретились, – говорит она наконец.
– Да, – говорит Чжу Дэ, – больше года…
– Четыреста семнадцать дней, – кивает Рада и грустно улыбается, – ты провел у мудрейшего Шахеба в его общине на другом краю долины.
– Четыреста семнадцать! – удивляется Чжу Дэ.
Снова наступает молчание, в продолжении которого они неотрывно смотрят друг другу в глаза, отчего весь мир вокруг начинает дрожать и медленно вращаться.
– Ты – Рада, и я – рад, – говорит Чжу Дэ старую их шутку.
И тогда они начинают смеяться, и возникшее напряжение исчезает.
– Какой ты чумазый, – говорит Рада, и Чжу Дэ рассказывает о том, что он, находясь в уединении, почувствовал что-то неладное, и успел помочь в тушении пожара.
– Шахеб рассказывал о твоих успехах, – говорит Рада. – Он гордится тобой. Тебе скоро проходить посвящение?
– Да, – говорит Чжу Дэ.
– А что потом? – спрашивает Рада неожиданно.
– Не знаю, – взгляд Чжу Дэ снова затуманивается, как будто он вглядывается в себя.
– Но ты хотя бы доволен?
– Не знаю, – снова говорит Чжу Дэ.
– Ну что ж, – смеется Рада, – по крайней мере честно!
– А ты?
– О, у нас все хорошо, – торопливо говорит Рада. – На праздник весны мы освятили новую ступу, очень красивую, всю в каменной резьбе, гораздо лучше прежней…
– Хорошо, – кивает Чжу Дэ, – значит, ты довольна?
– Не знаю, – Рада отводит на мгновение взгляд.
– Ну что ж, по крайней мере честно.
Они снова смеются, наверное, потому, что вдвоем смеяться легче. Чем грустить.
– Скажи, – спохватывается Чжу Дэ, – а что ты здесь делаешь, в этих горах?
– Разве ты не слышал, что треснула плотина, загораживающая озеру путь в долину? Отец уже там. Я несу ему вот это.
Она показывает плоскую металлическую коробочку, переплетенную витыми шнурками.
– Что это?
– Видишь ли, я ничего не понимаю в таких вещах, но отец говорил, что это устройство усиливает мысли.
– Я не понимаю, – говорит Чжу Дэ.
– Ну, вспомни, как он учил тебя передвигать камешки. А с помощью этого…
– Я не об этом, – улыбается Чжу Дэ. – Я не понимаю, для чего нужно усиливать свои мысли чем-то извне.
– Но я же говорю, Чжу Дэ, – одно дело маленький камешек, а другое…
– Никакой разницы! – смеется Чжу Дэ.
Рада пожимает плечами.
– Я понимаю, тебе хочется подразнить меня и посмеяться, – начинает она, – но нам всем сейчас должно быть не до смеха.
– Тем более, пойми, тем более, – Чжу Дэ тоже становится серьезен. – Ну, вот представь, что мысль – это товар… не смейся, ты сама сказала, что сейчас не до смеха… товар, который произвел наш мозг, а потребил другой человек, или дерево, или камень… Так вот, чем больше посредников между производителем этого «товара» и его потребителем, тем он дороже и хуже.
– Золото и драгоценные камни от большого количества посредников не становятся хуже.
– Разве ты не видела золотые монеты, стершиеся от прикосновений бесчисленных рук? Скажи… Учителю об этом, когда его увидишь.
– Как, Чжу Дэ, разве ты…
– Нет, Рада. Скажи ему: у души человека не должно быть посредников, направлена ли она в себя, вкруг него или к небу.
– А ты, Чжу Дэ…
– И еще, Рада, хорошая…
– Скажи еще!
– Если там увидишь мудрейшего Шахеба, передай ему, что я очень прошу его ускорить посвящение.
– Чжу Дэ, ты пугаешь меня. С тобой все в порядке?
– Да. Нет. Не знаю, – Чжу Дэ трет лоб ладонью.
– Чжу Дэ! – голос Рады дрожит и срывается.
– Дело в том, что я… Что ты… Нет, не могу. Прости, – Чжу Дэ, прижав к груди сложенные ладони, кланяется. – Тебе надо идти.
– Что ты будешь делать?
– Я… мне хочется побыть здесь.
Рада прикусывает губу.
…Одному.
Она тоже кланяется Чжу Дэ и молча уходит наискосок вверх по склону.
* * *
Тропа, преодолев несколько подъемов и поворотов, выводит на плато, у края которого расположено горное озеро с хижиной среди скал, – то самое, на льду которого было так жарко маленькому Чжу Дэ. Нет, маленького Чжу Дэ ведь не было никогда, – был маленький Иудж, которого сейчас никто не помнит.
Пространство между озером и обрывом в долину представляет собой гигантскую подкову, полукольцом охватывающим узкую часть озера. Но если приглядеться повнимательнее, то можно заметить правильность подковы, ее симметрию, что так редко в чистом виде встречается в природе. И тогда только приходит понимание того, что эта подкова – дело рук человеческих и на самом деле представляет собой плотину, удерживающую озеро на краю плато.
С обеих сторон подкову сдавливают горы – не подражания горам у холмов между плато и долиной, а всамделишние горы, величавые мосты между землей и небом. Здесь, у их подножья, жаркий солнечный день, а выше – горы по грудь закрыты облаками. А еще выше, выше облаков, за этими горами встают синие исполинские пики, покрытые вечными снегами – хранители Вечности, Гималаи.
По ту сторону долины высятся такие же горы, уходящие в облака. Там, в этой круговерти снега и ветра, – перевал, которым прошел маленький Иудж. Но кто сейчас об этом помнит?
По эту сторону озера, у широкой его части, собрались люди, человек десять-двенадцать. Здесь нет зевак, все буднично-просто.
Выйдя к озеру, Рада замечает стоящих в стороне Наставников вместе с отцом и направляется в их сторону.
Даже среди Наставников, хранителей человеческой мудрости и тайн мироздания, Учитель выделяется, хотя одет очень скромно и больше слушает, чем говорит. Вот и сейчас он, будучи гораздо выше Шахеба, вежливо наклонил к нему голову и слушает его взволнованную речь, время от времени кивая головой.
О, отец, ты как Гималаи среди гор!
Время не властно над ним. Только резче стали морщины на лбу, а седые волосы, перехваченные лентой, выбелены, как свежевыпавший снег.
– …И, наконец, эта фраза насчет отца, – доносятся до Рады последние слова Шахеба.
– Мир тебе, почтенный Шахеб, – здоровается Рада.
– И тебе, лунноликая!
– Ты? Хорошо. Давно пора, – Раффи кивает Раде и заканчивает беседу. – Да, милый Шахеб, все это весьма серьезно, – он устало трет крупный нос, – Не дай, друг мой, потоку событий превратиться в сель, сметающий все на своем пути.
– Шестнадцать лет – вихрь! Ураган! – Шахеб поднимает руки, и оба смеются.
Наконец, Раффи принимает от Рады плоскую металлическую коробочку, вешает ее на грудь и направляется в сторону озера.
– Друзья мои! – голос его разносится далеко во все стороны, хотя он говорит спокойно, почти не повышая голоса. – Я прошу вас быть внимательными и соблюдать осторожность. Еще лучше, если вы поможете мне.
– Как? Учитель, скажи нам, – раздаются удивленные голоса.
– Желайте мне успеха, – улыбается им Раффи и поворачивается в сторону гор, не слыша смеха в ответ, как оценки его тонкой шутки.
Ловкими движениями он оплетает голову витыми шнурками, тянущимися от коробочки и встает, расставив ноги, опустив руки и низко склонив к земле голову.
Наступает тишина, звенящая натянутой тетивой. Все взгляды устремлены на Учителя, который все также неподвижно стоит, словно врастая в землю и наливаясь загадочной и потому пугающей силой. Потом, когда исходящая от него сила стала ощутима на расстоянии людьми, как горный склон, покрытый снегом, за секунду до схода лавины, он медленно, невыносимо медленно, неотвратимо медленно начинает поднимать дрожащие от напряжения руки.
Все, что произошло потом, будет впоследствии пересказываться по-разному, более, но чаще менее правдоподобно. Поскольку все внимание присутствующих было сосредоточено на Учителе, никто не осознал того мгновения, когда одна из гор, особенно близко подошедшая к подкове плотины, дрогнула и сдвинулась с места. А когда люди, не веря своим глазам, уставились на невиданное зрелище, гора уже переместилась на середину подковы, всей своей массой подперев плотину.
Потом Раффи делает глубокий вдох, как человек, долго сдерживающий дыхание, и опускает руки. Плечи его поникают. Он также буднично снимает со лба плетеные шнурочки и поворачивается к собравшимся лицом.
И только когда до людей долетает могучий гул потревоженной земли, а от противоположного берега озера вздымается горб водяного вала, с грохотом разбившегося об этот берег и донесшего до ног собравшихся грязную пену пополам с песком и вырванной травой, они понимают, что все кончено. Оцепенение оставляет их; они переводят взгляд с Учителя на гору и обратно, в громких возгласах и смехе давая выход накопившимся чувствам.
– Учитель! Наш Учитель! – доносятся крики.
– Друзья мои, – говорит Раффи, – давайте вернемся каждый к своим обязанностям. Как вы знаете, у нас у всех их много.
Собравшиеся расходятся, продолжая оглядываться на гору, вставшую между озером и долиной. Наставники, полный Порфирий, маленький высохший Шахеб и всегда серьезный Ахав, подходят, чтобы выразить свое почтение увиденным, ибо они в очередной раз увидели, что он – воистину Учитель учителей. Рада подбегает к отцу и целует его в лоб.
– Ну, полно, полно, стрекоза, – ворчит Раффи, – уж тебе-то чему удивляться, если и ты можешь пользоваться этой игрушкой.
– Да, ты мне показывал, – кивает Рада, – но я бы сама никогда не решилась на такое.
– Решение приходит, когда это действительно надо, вот и все, – говорит Раффи.
– А вот Чжу Дэ говорит, что…
– Чжу Дэ? – восклицает Шахеб. – Ты его видела? Где он?
– Погоди, старый мальчишка, – говорит ему Раффи и обращается к Раде. – Так что говорит Чжу Дэ?
– Он говорит, что на самом деле это устройство не нужно.
– Вот как! И ты, Раффи, называешь мальчишкой меня? – горячится Шахеб.
– Ты считаешь, что это возрастное? Боюсь, что нет, – Раффи качает головой. – Что еще говорил Чжу Дэ?
– Он… Да, он сказал – это его слова, – что у души не должно быть посредников. И что он просит тебя, многомудрый Шахеб, ускорить подготовку к посвящению.
– Он так и сказал? Радость моя, Чжу Дэ! О, Владычица неба и звезд! – Шахеб прижимает руки к груди. – Раффи, пресветлый, позволь мне…
– Друг мой, что за церемонии? Конечно, иди! Когда ты хочешь провести испытание?
– Два дня на подготовку… На третий день, считая от сегодняшнего.
– Хорошо. Иди, славный мой Шахеб, у тебя много дел.
Шахеб торопливо уходит в сопровождении Айсора. Раффи присаживается на камень, разогретый солнцем, жестом приглашая Раду на камень рядом.
– Отец, по-моему, это просто дерзкие слова хвастливого мальчишки, который сам не знает, чего он хочет.
– Ох, какие праведные речи я слышу от тебя, великовозрастная ты моя и рассудительная! Всегда ли ты знаешь, чего хочешь?
Рада краснеет, потом внезапно, потупив голову, еле слышно говорит:
– Да.
Раффи гладит ее по голове и целует в лоб.
– Может быть, именно в этом разница между ним и тобой, – говорит он задумчиво и, отерев ладонью лицо, продолжает: – Этот мальчик удивлял и продолжает удивлять меня. Я внимательно слежу за ним. Он с легкостью перепрыгивает ступени, по которым его ведут Наставники. Ему тесны их рамки.
– А если их убрать, эти рамки?
– Ни в коем случае! Эти рамки, эти ступени шаг за шагом совершенствуют душу, шлифуют ее и, в конечном счете, одухотворяют. Ибо дух – это ограничение.
– Разве дух – это не свобода, отец?
– Чем отличается дикая полынь от розы в саду? Человек прививает черенок, пересаживает на другое место, подрезает растущий куст, то есть насильственно вторгается в жизнь растения таким образом, что вынуждает его усиливать одни свои качества, такие, как величина цветков, их аромат, ценой утраты других качеств, таких как выносливость, приспособляемость или плодовитость. То же и с дикими зверями и одомашненными. То же и с человеком. То же и с Вселенной, ибо тяготение, кривизна полей и тонких оболочек, само время – это ограничения, которые налагает на себя Мировой Дух. Не будь их, вокруг безраздельно царил бы хаос. Поэтому талант, как дар Духа душе, – это всегда ограничение, отречение от чего-то во имя своего раскрытия. Сними эти ограничения – и ты получишь дикаря.
– Мардус, – негромко говорит Рада.
– Правильно. Вот хороший пример великих возможностей, которые оказались нереализованными – из-за того, что в какой-то момент были сняты или ослаблены рамки. Интересно их сравнить – Мардуса и Чжу Дэ. Один с упоением ломает все условности, затаптывая свой дар в грязь, находит в этом какое-то болезненное удовольствие и грешит, надо признать, весьма искусно, даже талантливо. Другой играючи перерастает все рамки и, тем не менее, оглядывается в поисках новых рамок, сознательно, тоже с болезненным самоистязанием загоняет себя в них, – чтобы перерасти и их тоже. Порой я ловлю себя на том, что не знаю, что будет, когда возможности мои и Наставников окажутся исчерпанными и он перерастет все наши рамки. Более того, – Раффи покачал белоснежной головой, – я не знаю, с каким чувством я жду этого, – с нетерпением и интересом или болью и тревогой.
– Что с ним, отец? – негромко спрашивает Рада. – Я боюсь за него.
– Бедный мальчик, он сейчас в том возрасте, когда особенно важно влияние отца, и даже не само влияние, а просто сознание того, что он есть. Где, ты говоришь, его видела?
– По ту сторону плато, на окраине леса. Только, отец…
– Что, Рада?
– Он не хочет ни с кем разговаривать.
– Успокойся, – Раффи встает и снова целует Раду в лоб. – Я не буду с ним разговаривать. Бери игрушку и ступай домой. Я не задержусь.
* * *
Над скалой недалеко от хижины осторожно высовывается голова, цепким взглядом окидывает опустевший берег озера.
Это Мардус.
Он еще раз смотрит на передвинутую гору, потом вниз, где по склону осторожно спускается Раффи.
– Неплохо, совсем неплохо, – говорит он. – Маленькая-маленькая коробочка и большая-большая гора, да? Вот и ладно.
Голова его снова исчезает за скалой.
* * *
Раффи замечает Чжу Дэ на фоне плотнотканого ковра леса, когда тот, изогнувшись упрямым чинаром на крутом склоне, медленно преодолевает каменистый гребень в черных блестках россыпей обсидиана, и негромко окликает его. Чжу Дэ оглядывается на крик и, завидев Учителя внизу, выпрямляется, так что голова его оказывается выше кромки леса – ворох пшеничных колосьев, брошенный в синее небо. Раффи машет ему рукой и поднимается к нему.
– Вовремя я тебя заметил, – он, улыбаясь, переводит дух и отирает лицо ладонью, – мне ведь за тобой не угнаться. Мир тебе, отшельник.
– И тебе, – тихо отвечает Чжу Дэ. – Что-нибудь случилось? Нет? Что же тогда – Учитель пришел к нерадивому ученику?
– Я соскучился по тебе, – просто говорит Раффи.

