
Созвездие Кита. Орбиты
Приготовленья все проведены,
Цвели галактикой душистой незабудки,
Цвели все девушки и юноши страны –
Цвели, на жизнь смотрели беззаботно
И, вспоминая лучшие деньки,
Шумели весело, дышалось им вольготно,
Их видя, улыбались старики.
Из репродукторов лились рекою песни,
Знамёна красные, кружась от ветерка,
Зарёю алою смотрелись, и прелестно
Фрегаты туч неслись издалека.
Играли в скверах пышные оркестры,
Манила блеском вод своих река,
И не было тогда ещё известно,
Как катастрофа гибельно близка.
Да, мало кто в веселии всеобщем
Вниманье обратил, что в небесах
Кружили вороны, гонцы кромешной ночи,
И стрелки замирали на часах…
А завтра – выступленье комиссара,
От Молотова узнаёт страна
О нанесеньи страшного удара,
О том, что ночью началась война…
До августа уже была в руины
Превращена застройка городка,
А юноши во рвах рвались на минах,
Горели в танках, также коротка
Жизнь оказалась и у одноклассниц,
Душой медсёстры проросли в поля,
И горький плач над небосклоном ясным
Раскачивал колосья ковыля,
В себя вобравшего мучения, потери
Несостоявшегося торжества –
Артиллерист в упор врагом расстрелян,
Связистка, одноклассница, мертва…
Какую доблесть проявили дети,
Которым рано повзрослеть судьба
Судила, чтоб и после верной смерти
Продолжилась великая борьба…
Их кровь окрасила Победы нашей знамя,
Ведь до Берлина армию вели
Погибшие, будя в живущих пламя,
Связь знаменуя неба и земли…
Архангелы, преставленные классы
Сломили грозного, как Ганнибал, врага,
И выживших, в семнадцать седовласых,
Роль тоже несказанно велика,
Роль в сохранении всего честного света,
Окутывал который едкий дым –
Как некогда великолепно спето:
«Поклонимся и мёртвым, и живым!»
Посвящение моей прабабушке, бабуле Ире
Бабуля Ира – героиня,
Достойная романов громких,
Душа ясней небесной сини,
Идей и мыслей – не котомка,
А караван до звёздной выси,
В делах насущных – непрестанно,
И в каждом деятельно смыслит,
В уме – с намётками генплана.
И дщерь достойнейшего рода,
И, право, гордость Оренбуржья,
В крови – Самарская порода,
И с житницей, Кубанью, дружит.
Да что перечислять… Россия
Нашла в бабуле воплощенье,
Мелодика Аве Мария,
Но в православном исполненьи.
Пройдя сквозь голод и лишенья
Поры военной и подъёма
Послевоенного – раченьем
Полна о ближних и о доме.
Характер с детства закалённый,
Смышлёней Фурцевой, но мягче,
Лицом – Сикстинская Мадонна,
Детей и внуков с чувством нянчит.
Во всём читается забота
И, вместе с этим, крепость духа,
Новатор большая, чем Джотто,
Обидит разве только муху.
И что ни утро, то с зарядки
Бабуля начинает бодро,
С мотыгой трудится на грядках,
Могла бы быть героем спорта.
Политика не ускользает
От восприятия бабули,
Хоть США, а хоть Китая,
Что подписали, что свернули.
Горжусь прабабушкой своею,
Великолепной Ираидой –
Чуть более, чем всё, умеет,
И оптимизм – её планида!
Чётки
Брошь забыла, платье наизнанку,
Собиралась, что ли, второпях,
Словно отплясавшая вакханка –
Лёгкий ужас в смоляных бровях.
И глаза, озёрца, покраснели,
А сама, как ларь с мукой, бледна…
Ну, забудь те горькие недели –
Не твоя, и вовсе не вина.
Вдаль глядишь, перебираешь перстни,
Будто чётки или же сердца,
Завывает ветер злые песни –
Может быть, погреешься в сенях?
Ты стоишь, меня не замечая,
Сняв перчатки с охладевших рук…
Всё, что можно, – о тебе не знаю,
Что нельзя – всё знаю, милый друг.
Умирание
Тихо доживала век свой баба Маня,
Тихо доживала в брошенной деревне,
Красила на Пасху голубые ставни,
Сил хватало, избы мыла ежедневно.
Умерла старуха на печи промёрзшей,
И деревня с нею дух свой испустила,
Огоньки по хатам не зажгутся больше
И кресты согнутся на седых могилах.
Велико ли горе? – Даже солнце гаснет,
Тишина глухая всюду воцарится,
Только лишь под Пасху, ранним утром ясным,
Будет чей-то шёпот в поле разноситься.
Стеклянные цветы
Смотрел на профиль свой сквозь мытое стекло
Летящего через тоннель вагона –
Кино немое быстро увлекло,
Как пирамиды – души фараонов,
И видел я в надраенном стекле
Не облик свой, растёкшийся, как клякса,
А всё, что происходит на Земле,
Под бородой у Господа и Маркса.
Не видел я лицо – одно пятно
Опять соединяемой Гондваны,
Всё сыпалось, как кости в домино,
Как толстый кот со старого дивана.
Но станция достигнута, и я
Вываливаюсь, движимый толпою,
В привычные границы бытия,
Где снова ничего у нас с тобою.
А станция и вовсе не моя,
Но я не тороплюсь, не чертыхаюсь –
Ползёт вагон, как мудрая змея,
Как в сложносочинённом запятая.
А вскоре слёзы, крики – узнаю,
Что мой вагон дотла сгорел в тоннеле:
Смотрел в стекло я, стоя на краю,
У смерти языкастой на панели,
Но Ангел мой и хроника стекла,
Напор толпы, а также мутность мозга…
Короче, Божья воля сберегла
От ранних встреч с кладбищенской берёзкой.
И, приходя к погибшим сорока,
Мне неизвестным, к памятнику скорби
Кладу цветы в стекле, и облака,
Рыдая, им отращивают корни.
Пожалуйста, не уходи
Начальник наорал несправедливо,
Друзья-подруги смылись кто куда,
Но счастлив, поднося тебе оливы
И пледом укрывая в холода.
Собака у стоянки покусала,
А голуби за памятник сочли,
Но счастлив наливать тебе в бокалы
Чаи из разных уголков Земли.
Опять в футболе наши пропустили,
Карманники лишили кошелька,
Но, подходя к тебе с букетом лилий,
Могу сказать, что счастье отыскал.
Соседи вновь затеяли скандалы,
Раскалывала голову мигрень,
Но вот с тобой гляжу я сериалы
И счастье наполняет этот день.
Ушибся я, сдвигая антресоли,
А кот мой тапок принял за лоток,
Но, для тебя готовя ванну с солью,
Счастливей Лепсверидзе раз во сто.
Пусть жизнь наносит разные удары,
Мы справимся со всем, как ни крути,
Но только ты с твоим волшебным даром,
Любимая навек, не уходи.
За виноградными гроздьями
Виноградные гроздья ажурные,
Молчаливо повисшие гроздья,
Над скамьёй деревянной, над урной,
Над неверящим лепетом «Бросьте»,
Над свиданьями в белой беседке,
Над Отелло и Дездемоной,
Королька приютившей веткой,
Над стаканом с водою лимонной,
Над типичной старинною драмой,
Над типичною чеховской пьесой
Виноградные лозы упрямо
Наклонились угодливым бесом,
Оплели занавеской колючей
Уходящую в пламя эпоху,
Закрывая голодные тучи,
Приближая вакхический хохот.
Родные
Родные бывают не только по крови,
Бывают родные по крою, по крову,
Как сердце родное утешить уловят,
Укроют хоть пледом, хоть шкурой тигровой,
И ласковым словом, и тихим напевом,
Настолько родным, что куда уж роднее –
Хоть слева направо, хоть справа налево
Следы пролагаешь – надеждою реют.
Идут осторожно, не давят на пятки,
Без слежки и спешки – и без передышки,
Идут по траве и идут по брусчатке,
Их труд – часто тих, никогда не мартышкин.
Приняв недостатки, прощают излишки,
Но всё ж поправляя и делом, и словом,
А если и машут, как хвостиком мышки,
То чтобы златое извлечь из простого.
Родные бывают не только по крови –
Такие бывают, что, кровь проливая,
О них вспоминаешь с особой любовью,
И внутрь вливается сила живая.
Родные с тобой до скончания века,
А с ними и память, и время бескрайны,
Родные – родник и рудник человека,
Открытая книга, великая тайна!
Маня Кармен

* * *
Машинист, погоди жать на кнопку закрытия автодверей.
Я бегу и надеюсь, что въедливый мир, наконец, подобрел,
Даже если никто не просил и не просит об этом так сильно, как я.
Я надеюсь, что я ошибался, считая мой мир минным полем,
Полигоном из боли, гигантской, крикливой, неслыханной боли,
Колтуном из оскалов, оправданной злобы, благого вранья.
Я и вправду хочу завязать. И узлы, и тугие бинты
На словах, кровото́чащих слишком упрямо от этой вражды
Между мной и всем тем, что когда-нибудь родилось.
Я и вправду несусь на платформу, спеша лишь увериться в том,
Что враждебная пустошь из лиц, голосов и бетона – мой дом,
И твои незакрытые двери – пожалуй, последний незагнанный гвоздь
В эту крышку дежурного пожелания доброго дня.
Машинист, погоди уезжать, только чуть не дождавшись меня,
Дай мне шанс, дай и мне его, и моим бестолковым ногам.
Я уже пропустил очень много похожих на твой поездов,
Уповая на то, что пешком-де удобнее за путеводной звездой,
Той, что лопнула и дотлевает, упавшая с потолка.
Мне неважно, куда я доеду, неважно, где твой маршрут
Спотыкнётся, уткнувшись в запутанную мишуру
Метроветок, забитых в расщелины города тонкими клиньями.
Я хочу убедиться, что вырос из загнанных диких зверей.
Машинист, погоди жать на кнопку закрытия автодверей,
Я почти что на месте, я вот он, я здесь – заступаю за линию.
Извинительное
Прости меня. Простить меня
Довольно просто, если ты
Не ищешь довода в камнях,
Не ищешь в доводах воды,
Не ищешь повода искать
Вообще, поскольку это «не»
Мешает ползать по вискам
Живучей, юркой седине.
Прости за вечный «красный свет»
В оттенок воспалённых глаз,
За траекторию в кювет,
За то, что ничего не спас –
Ни наших безнадёжных лиц,
Ни даже женщин и детей,
За нежелание смириться
С тем, что мы уже не те.
Прости меня за что-нибудь:
За штиль невыстиранных штор,
За что угодно – люди любят
Извиняться за ничто,
За ворох несчастливых чисел
И за мой скулящий стиль –
Я ничему не научился,
Только говорить «прости».
Никто не виноват, не прав,
Но кто-то снова без труда
Нашарит истину в камнях,
Не замечая, что вода
Уже нахально лезет в нос
И набивается в друзья.
И, чтобы это не сбылось,
Я попрошу: «Прости меня».
* * *Ты надломил каблук и не заметил,
Ты разодрал убогий шарф по шву.
В прорехи куртки лезет встречный ветер,
А солнце жадно лезет на Москву.
Ты потерял надёжный левый адрес –
Там сел консьерж, и больше не пройти.
В кармане куртки возраст – ровно двадцать,
И скоро станет ровно плюс один.
Ты разглядел немногое, отсюда
Не разберёшься – правда или нет.
Под старой курткой – битая посуда
И капли синтепона на спине.
Ты не искал – тебя всегда находят
По чутким безнаказанным «жучкам».
В подкладке куртки – стены подворотен,
На вороте – подкова для крючка.
Тебе не дали никаких инструкций,
Лишь указатель с километражом.
Прорехи куртки криво улыбнутся
И просипят: «Всё будет хорошо».
Прорехам этим ни конца, ни края,
Глотают ветер, наедаясь впрок.
И если их однажды зашивают,
То вместе с ними зашивают рот.
* * *Пустота, пустота моя, худенькая и костлявая…
Надоело тебе пустовать под шальными усмешками,
Надоело тебе только прямо (всегда только прямо ли?),
Надоело цепляться за дамки, пора нам и в пешки бы.
Пустота, пустота моя, нервная и задиристая,
С нас хватило карабкаться первыми на баррикады –
Мы довольно ломались и даже почти обломились.
Поворачивай к чёрту. Пора возвращаться обратно.
Поворачивай, милая, здесь оставаться нам нечего.
Мы ещё погуляем, родная, и трижды наполнимся,
Понакупим рубашек развязных, оторванно-клетчатых,
На угарные, странные сны обменяем бессонницу
И завяжем с войной, которая нам не объявлена,
А то ведь мы себя и не вспомним-то в мире и мирными…
Пустота, пустота моя… Худенькая и костлявая.
Назовут дезертирами – значит, пускай дезертиры мы,
Обвиняют в предательстве – хрен с ним, пускай и предатели,
Мы же кем только не были, даже потухшими свечками.
Так что, нам ли с тобой привыкать, и вообще – привыкать ли?..
Так что, нам ли с тобой, пустота моя, привередничать?..
* * *Это мы поднимаемся в шесть и ложимся в два,
Забывая себя в разноцветных подземных ветвях.
Это мы запускаем китайский фейерверк во дворах
И стоим на ногах так же крепко, как на бровях.
Это мы, улыбаясь, читаем диагноз «гастрит»
В тёртой карточке, зная, что будем жрать «Доширак».
Это мы запиваем выхлопами огни
Обожаемых нами проспектов и автострад.
Это мы – «биомасса» любого из блёклых цветов,
«Быдло», «менее, чем средний класс», «больше, чем ничего».
Это с нами всегда что-то категорично «не то»,
Потому что мы и в благодетели видим развод.
Это мы, что ни делаем – кажется, будто насмарку,
И, когда оно заколебёт, выдыхаем селитру.
Это мы разоряем крутые московские парки,
Потому что не знаем, что может быть чище спирта!
Это мы. Это я. Это вы. На засохших окраинах,
Затыкавших аппендиксами ляжки длинных заторов,
Обитают весёлые, злые и пёстрые стаи.
Это мы. Мы сильнее всего дорожим этим городом.
* * *Крутишься, маешься, дёргаешься, и невольно
Осознаёшь – между мелкими тучными взвесями
Нету тебя. И меня. Никого. Только
Холодно, пусто и весело.
Шаришь по дну, песчинки влезают под ногти
Старой заезженной песней. Пусть не до песен,
Но всё равно что-то крутится, что-то, вроде:
«Холодно, пусто и весело».
Крепко хватаешься – мимо, бросаешься – мимо,
Кажется – нахрен утонешь во всём этом месиве,
Хочешь отлив. Вспоминаешь, что перед отливом
Холодно, пусто и весело,
Злишься… А злоба – одно, что останется значимо.
Время пройдёт – там и злоба покроется плесенью.
Это затем, чтобы не приходилось откачивать.
Холодно. Пусто. И весело.
* * *Постапокалипсис – это если
Время не топчется и не мнётся,
А протекает меж пальцами вместо
Воды из-под крана.
Постапокалипсис – колкий ветер,
Занял нагретое место под солнцем
Вместо тебя, вместо всех, кто метил.
Бледный подранок
Выползет из канавы вряд ли.
Пятна следов заметает пылью.
Это не первое января
И не сон под веками,
Постапокалипсис – это значит,
Не было тех, кто, конечно, были,
И не подранок в канаве плачет –
Здесь плакать некому.
Постапокалипсис – это кто-то,
Тот, кто не может не отзываться,
Не отзывается через холодное,
Доброе, вечное.
Постапокалипсис – чёрный ноготь
На обмороженном белом пальце.
Постапокалипсис – это не впроголодь,
А незамеченно.
Только не думай, кого на колья,
Кто и зачем заварил эту кашу,
Тут никого и никто не неволил.
Белого цвета
Хаты, нарочно зависшие с краю.
Постапокалипсис – это страшно.
Только никто никогда не признает,
Что мы уже там.
* * *Я лежу и рассматриваю под потолком
Непонятное и невнятное, ни о ком
Толком – просто обрывки сюжета вскользь и
Беседую с лампочкой, которая знает Морзе:
«Г-д-е-т-о-т-ы-т-у-т».
Отвечаю ей полифонией:
– Не глупи, посмотри – все эти сюжеты мои, или
Будут моими, были моими, но знаешь, я
Так хочу и стараюсь, но до конца понять
Не могу – кто я, где я, какое мне место в них…
Лампочка замолкает и больше не говорит…
Никакого ответа, что приводит к привычной панике,
Только утро опять отражается в нити накаливания,
Под спиною иголки разбудят меня, и вот уже
Разгоняется несмолкаемый шторм под кожей.
И когда, примиряясь с этим, шагну под шквалистый
Недозимний, переосенний ветер – останется
Только тусклая дробь, сигнал:
«Н-и-ч-е-г-о-н-е-б-о-й-с-я».
Это лампочка благословляет меня на Морзе.
Пётр Хазановский. Пётр Кифа
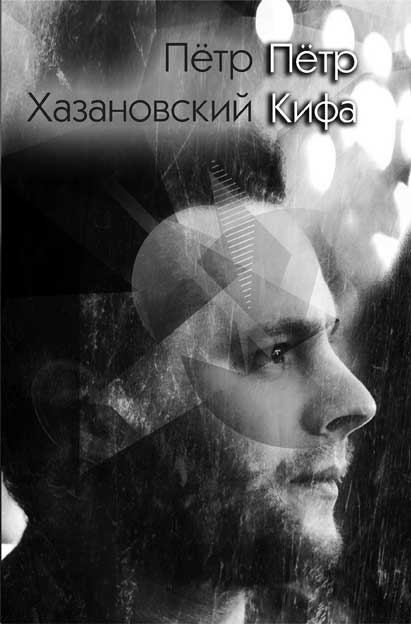
Santa Golyanovo
От старого пруда пахнуло илом,
Вода стоит, как плавленый гудрон.
Потухший дом торчит большим зубилом.
Свет фонарей спускается на дно.
Гольяново остыло и уснуло,
Сложив своих прохожих под матрац.
Сны разбежались торопливым гулом.
За ними гнался одинокий КрАЗ.
Он зарычал, как старый пауэрлифтер
И раздавил осеннего жука,
Который так хотел увидеть Питер
И брызнул на ботинки мужика.
GoodOk
На вокзале воет поезд,
Курит горький фимиам;
Город уезжает, то есть,
Уезжаю сам.
Я оставлю тут беспечность,
Неумелые дела,
Глупости про боль и вечность,
Женские тела.
Там, где сладкая моло́ка,
Там, где велики звенят,
Ждёт несчастное далёко,
Только не меня…
Виниловые нимбы
Его тянуло к тёмным образа́м,
Огням притвора дымного, и всё же
Он шёл туда, где егерский бальзам
Мешают с пивом выпуклые рожи.
Туда, где кружит мутную толпу,
Где можно спорить с дураком прохожим,
И потемнеть лицом, когда во лбу
Под утро бродят выпитые дрожжи.
Кутят герои городского мифа,
Извечно куролесит мир теней.
Знай своё дело, старая олифа,
Пусть образа́ становятся темней.
Дрожат огни и мироточат гвозди,
Косая тень ступает за порог.
Она стоит и ни о чём не просит,
И ничего не говорит ей Бог.
Всё заново напишет старый инок,
А баба в муках заново родит.
И нимбы из виниловых пластинок
Споют божественно московский бит.
Новоселье
Заиграл святым огнём
Одинокий нужник.
Прошлое осталось в нём
И в реке-вонючке.
Абортирует барак
Новый экскаватор:
Стекловата, щепки, шлак…
Охнул инкубатор.
Встал на насыпь из песка
И бетонной крошки
Дом – зелёная тоска,
Жёлтые окошки.
Зашкворчит в сковороде
Тараканье сало,
Потечет по бороде,
По кишке усталой.
То не шабаш разлихой,
Не триумф похмелья,
Не забава с мистикой,
Это новоселье.
Лиственный
В нашем посёлке живёт деловой малыш:
Он охраняет двор и гоняет кур.
Чтобы увидеть мир, он полез на крышу:
Думая, что за лесом река Амур.
Выхлебал щи зелёные вездеход,
Нету в округе рек, синевы морей!
Спит в рубероидных будках честной народ.
Время течёт стремительнее Буреи.
Дымка над марью стелется, рвётся, тает,
А в гараже соседа ожил Урал,
Лес распустил хоругви и наступает,
Медленным пароходом идёт Ургал.
Недалеко от дома воняет септик,
Над головой лохматой кружит канюк,
По теплотрассам бегают чьи-то дети,
Вместо Луны на небе планета Плюк.
Природоведение уйдёт за парту,
А о высотах будет судить физрук.
Всё, что узнал, малыш нанесёт на карту
И отнесёт секрет в потайной сундук.
В лабиринте молла
(романс)
В лабиринте молла,
Где смешались лбы,
Сальные носы и затылки,
Ты очнулась голой
Посреди толпы
В этой музыкальной копилке.
Растекались тушки
Маленьких людей
В зеркалах витрин, к шеншелям и платьям.
Скалились игрушки
На слепых детей
Полным эротизма проклятьем.
Не заметят люди
Твоего стыда
И пройдут насквозь, не заметят
Маленькие груди,
И ребристый стан,
И твои глаза цвета меди.
Ты жива для мёртвых,
Призрак для живых,
Не видать тебе берегов загробных…
Будешь ты от чёрствых,
Алчных и скупых
Охранять невинных и робких.
В лабиринте молла,
Где смешались лбы,
Сальные носы и затылки,
Ты гуляешь голой
Посреди толпы
В этой музыкальной копилке.
ВДНХ
В-Д-Н-Ха…
Остывшая советская мечта,
Затерянная в снах соцреализма;
Загробный заповедник коммунизма,
Вальхалла для рабочих и крестьян.
В-Д-Н-Хаа…
Исчезнувшей империи Пальмира,
Где молятся забытым божествам
Колхозница, рабочий и тиран.
Ковчег Советов, равенства и мира,
В-Д-Н-Хааа…
Как бесконечный выдох Ильича,
Как вечная агония Хирама,
Почившего в стенах родного храма
В багряной плащанице кумача.
Пионэрский романс
Я была непорочна, чиста и невинна,
Но беда неожиданно грянет, как шторм.
И однажды креплёные крымские вина
Разожгли мою плоть пионерским костром.
Я очнулась на Вашем измученном теле.
Вы за что погубили примерную дочь?
В эту ночь, голубчик, Вы мной овладели,
И с улыбкой чеширской уходите прочь.
В лагерях пионерских случается горе,
Так же редко, как радости в концлагерях.
Это горе я выплесну в Чёрное море
А обиды спеку в раскалённых углях.
И теперь я любого в объятиях согрею,
Будь он прынц или грубый австралопитек.
Я уже ни о чём, ни о чём не жалею!
Пусть и дальше меня разлагает АРТЕК!
В пурпурном облаке
Шар ледяной –
Одиноким прожектором
Свет голубой
Распыляет по векторам.
Глыбы – попутчики,
Льды – провожатые.
Вольные лучники,
Смелые кшатрии.
Режут кристаллы
Туманы из марли, и
Варят металлы
Угрюмые карлики.
Всё растворяется
В холоде, в мороке.
Вечность вращается
В пурпурном облаке.
Томно-усталые,
Верные, кроткие
Грезят в хрустальных
Яслях её отроки.
Жизни короткие,
Сны скоротечные.
Вечно голодные,
Путники вечные.
Лидия Краснощёкова

Месть
На западной трассе поутру
восточному ветру – дуть:
к полуденной злобе города
с дороги сметая путь.
Мы пахнем гашёной известью.
Мы – пленники пепелищ:
поджечь, не умея вынести –
и даром, что сам сгоришь.
Размазанно-некрасивыми
нас помнит честной народ.
Не прочерками – пунктирами —
зашили дороге рот.
На определённой скорости
мы – звук, перешедший в свет,
у неба в нагрудной полости
припрятанный на обед;
на старую карту пролитый
случайно и горячо…
Зашкаливает спидометр,
расколотый как зрачок!
Мы двигаемся неистово,
у мира забрав в залог
беременную убийствами —
тройня на одного.
Вы все её подопечные,
затем её взгляд – седой.
Ухмылка остроконечная
как повод назвать звездой…
Свободная, как республика,
бесформенная, как власть —
объём криминальной рубрики
способна одна украсть.
Красива, как вся История.
Мечтая в неё войти,
наивно избрать безволие —
последнюю из рутин.
Найдя в себе воспитателя,
я клятвы давал аванс.
Бесстрашием обаятелен,
вернусь даже в крайний раз —
агонией для охотчиков
по огнь пироманских душ.
Когда дела нет до прочего,
что будничный список нужд?
Бесхлопотное убежище,
излюбленное людьми,
что к нам запустили бережно